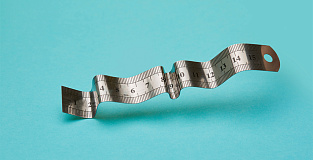Понимаете, сегодня я могу преподавать в Беркли, приезжать в Россию, давать Harvard Business Review интервью по-русски. Ничего подобного в советское время нельзя было себе представить. Сегодня есть публичное пространство, где можно говорить открыто. Ну да, телеканал «Дождь» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) многие кабельные операторы исключили из своих списков, но тем не менее он существует, работает. Но в чем-то другом свободы меньше — сейчас мало кто скажет, что занимается чем-то для себя интересным.
Алексей Юрчак: О пользе бессмысленности
Как понять, что прошлое ушло навсегда?

читайте также
Сегодня иногда кажется, что мы вновь попали в советские времена. Можно ли реставрировать ту систему? Как понять, что прошлое ушло навсегда, и как правильно его изучать, чтобы не переносить на него наши нынешние представления? Об этом рассказывает исторический антрополог, профессор Калифорнийского университета в Беркли Алексей Юрчак.
Не наблюдаете ли вы ностальгии по советскому строю?
Люди ностальгируют о разном: было больше свободного времени, чаще встречались с друзьями, дети занимались в бесплатных кружках, базовые потребности были обеспечены. Тогда материальная сторона жизни была не так важна, и потому многие могли предаваться увлечениям: ходить в походы, ездить на юг или даже пытаться решать задачи фундаментальной науки. Особого интереса к карьере не было, точнее, он не был определяющим для большинства, потому что уровень потребления зависел от должности несильно. В интеллигентском кругу карьерные амбиции многим претили. Словом, совершенно иначе было устроено общество. Делать вывод, что люди ностальгируют по советской системе и политическому авторитаризму, — по меньшей мере странно.
Но ведь нынешняя власть тоже авторитарна. Возможно, это реставрация советского проекта?
Нет. То, что называют авторитарным режимом сегодня, к тому режиму отношения не имеет. Неправда, что теперешняя ситуация напоминает тогдашнюю. У нынешнего режима нет такой идеологической программы и такого видения будущего, которое пронизывало бы все. А та идеология — как к ней ни относись — имела некий нравственный оттенок и потому для многих была реальным стержнем жизни. Люди могли разделять социалистические ценности и при этом не любить власть.
Я знаю людей, которые серьезно заявляют, что в советское время было больше свободы. С ними можно согласиться?
В СССР было много формальных и пустых ритуалов, но пустота открывала возможности — наполнить свою жизнь иным содержанием, причем не обязательно антисоветскими. Например, комсомольский работник мог наряду с производством риторики для отчетно-перевыборных собраний делать что-то нужное: скажем, организовать концерт или помощь молодым семьям. Государство накладывало некую рамку, внутри которой можно было действовать относительно независимо, но оставаясь частью системы. Сегодня большого идеологического проекта нет, и само постсоветское общество очень дробится, сколько бы ни говорили про 86% поддержки президента. Да и самого государства в том смысле, о котором говорит власть, нет. На всех уровнях оно лишь симулирует свое присутствие, изображает демократию, независимые суды, независимую законодательную власть, свободу слова.
Разве в СССР было не так?
В Советском Союзе существовала симуляция на уровне формы. Надо было ходить на собрания, но можно было не слушать, а заниматься своими делами. Книгу читать, например. Тебя при этом не называли пятой колонной.
То есть ты как бы становился невидимым для власти и жил своей частной жизнью?
Не совсем. То, о чем говорите вы, ближе к эскапизму. А я предлагаю другой термин: «вненаходимость». Не закрываться от идеологии, а существовать одновременно внутри и вне ее. Быть одновременно вольнодумцем и советником Андропова — как Федор Бурлацкий, например. Сама система функционировала по принципу вненаходимости: она воспроизводила форму, не предполагая при этом, что у нее будет какой-то смысл. Вряд ли кто-то пытался читать подряд все передовицы газеты «Правда». Какие-то абстрактные идеи в них были, но статьи специально писали так, чтобы из них нельзя было выделить мысль и сформулировать своими словами. Точный смысл идеологического высказывания вообще нельзя понять, но зато в пустую оболочку можно было вложить иное содержание. Например, по форме старшеклассник вступает в комсомол, а по существу — готовится к поступлению в вуз, куда иначе не примут. И все играли в эту игру. Но сегодня совсем не так. Мы имитируем не форму, а именно содержание — например, демократическую модель и независимость суда.
А разве советские суды действовали не так, как теперь?
Тогда не было задачи изобразить либеральную демократию западного образца. Была своя «социалистическая законность», декларировалось, что у нас «самые справедливые суды». Форма была абсолютно выхолощенной, и это давало определенную свободу.
И все же на уровне риторики есть ощущение, что все возвращается. По телевизору слышишь: «клеветнические измышления», «закидать грязью» и пр. Чем это отличается от нападок на Сахарова и Солженицына?
Дело не только в языке, но и в практиках, которые совершенно не воспроизводят советские. У риторики две стороны. Первая — языковая: что и как говорится и пишется, то есть семантика, фразеология, система аргументации. Здесь действительно есть попытки заимствований из тех времен. Но есть и другая сторона: формы распространения и бытования этой риторики. И тут основное отличие. Помимо «Первого канала», официальный дискурс распространяется и в виде рефлексии. «Это ужасно! Как так можно говорить! Мы все это уже когда-то слышали» и т. д. Мы получаем отклики общества на новости — в соцсетях, через условное «Эхо Москвы» и прочее. Таких «каналов доставки» в советское время не было. Так что говорить о простом воспроизведении неверно. Советская публичность, советский способ общения с народом — этого нет. И не может быть. Потому что сегодня в России неолиберальное капиталистическое общество с авторитарной властью. Не социалистическое общество, но и не западно-демократическое.
Вы в основном изучаете интеллигентный слой в крупных городах. Почему?
Для меня главным объектом исследования является не субъект (некий «советский человек») с его средним опытом — что он слушал, как одевался, как относился к лозунгам, — а исключительно то, каким образом люди одновременно воспроизводили и искажали идеологические посылы. Я смотрю, каким образом в реальной жизни при неизменности формы сдвигался смысл. Тут деление на «городское» и «негородское» вовсе не принципиально. И в городе, и в деревне люди на всех уровнях голосовали, не слушая.
Вы социолог?
Я социальный антрополог. Антропологи тоже изучают общество, но они ближе к этнографам — тоже подолгу находятся «в поле». В конце XIX— начале ХХ века науки разделялись так: социологи занимались современными обществами, антропологи — традиционными. Но это давно поменялось. Сегодня этнография как метод просто означает включенное наблюдение. Если вы находитесь «в поле» долго, то сами постепенно выделяете объекты, которые важны для описания и анализа. Например, поселившись в городе, вы изучаете экономические практики и типы потребления, которые в нем бытуют. И вполне может оказаться, что понятие «среднего класса» при включенном наблюдении рассыпется, то есть не впишется в реальность, которую вы наблюдаете.
Я занимаюсь и современностью, и историческими проектами. В книге «Это было навсегда, пока не кончилось» я пытаюсь объяснить, почему обвал советской системы оказался неожиданным, и для этого надо было пойти от момента ее краха на два-три десятилетия назад и надолго там задержаться. Исторический антрополог занимается историей и ее связью с современностью. Например, историк Стивен Коткин написал книгу о Сталине. Ему совершенно не важно, что думал о Сталине Горбачев. А для меня было бы важно. Дело не в том, что перестройка добавила какие-то новые факты, но она заставила по-новому заговорить об уже известных. Это совершенно другой подход.
Антропологу требуется включенное наблюдение, но как отправиться в поле, которого давным-давно уже нет?
Я не могу там оказаться физически, но могу воспроизвести этнографическое поле с определенной исторической глубиной. Для книги про последнее советское поколение я начал работу со сбора сегодняшних материалов: воспоминания о советском прошлом, интервью, рассказы о тех временах, встречи с людьми, в том числе у них дома. А затем собирал материалы из того прошлого, когда еще было невозможно представить, что система и государство могут развалиться. Для исторического антрополога это принципиальный момент: то, что имело место давно, должно анализироваться с учетом сегодняшнего знания. А то, что отрефлексировано сегодня, обязательно должно быть подкреплено материалами из тогдашнего поля.
Моя книга не портрет поколения. Это описание некоторых важных принципов воспроизводства системы, которые вели к повышению ее внутренней хрупкости. Я не оперирую понятием «класс» и не разделяю группы людей на «город» и «деревню». Откуда мы знаем заранее, что в городе «интеллигенция» действует так, а в деревне «народ» — иначе? И почему мы вообще должны этими категориями оперировать? Для меня важнее, что, живя в СССР, все находились внутри гегемонии единой идеологической формы и должны были с ней как-то взаимодействовать.
А если бы в те времена были социологические опросы, они могли бы предсказать крах системы?
Вряд ли. Социология опросов оперирует более или менее готовыми концепциями того, какие есть группы и какой процент от каждой составляет портрет общества. Проводятся опросы с большими выборками, и в итоге появляется много внушительных цифр. Но когда подходишь к материалу с заранее сформированными мерками, это может исказить картину. Такой подход, возможно, отразит какие-то сегодняшние нормы, но точно не покажет незаметных изменений, происходящих внутри общественных отношений — вроде тех, которые незаметно привели к распаду СССР. На Западе такой позитивистский количественный подход к изучению общества критикуют давно. Есть разные виды социологии и в России, и многие социологи наряду с опросами проводят массу включенных наблюдений. Но стараниями СМИ понятие социологии часто ассоциируется лишь с опросами и процентами.
Чем вы занимаетесь сейчас?
Я изучаю уникальную научную практику, которая образовалась вокруг проекта сохранения тела Ленина. Этим сохранением занимается уже пятое поколение ученых. Они наработали огромное ноу-хау и обучают друг друга. Я был в лаборатории не только здесь, но и в Болгарии, где раньше сохранялось тело Димитрова, и в Праге, где по аналогичной методике бальзамировали тело Готвальда. Делали это те же ученые из Москвы; одновременно они обучали местный медицинский персонал.
А как вы туда проникли?
Сначала меня не впускали. Надо было познакомиться с сотрудниками, объяснить им, что я не журналист, который хочет над ними посмеяться. И они постепенно поверили, стали со мной общаться, я наблюдал их работу. Ленина ведь не просто забальзамировали раз и навсегда. Нужно регулярно изучать тело, подвергать профилактическим процедурам, в разные растворы помещать и т. д. Очень многое из политической истории становится понятным через призму этой науки.
Как это связано?
Я начал с последних лет жизни Ленина, когда он был болен и фактически изолирован в Горках. Именно тогда появляется термин «ленинизм». Ленин, кстати, был категорически против этого термина и догматизации своих высказываний. Но его мнение уже было практически не важно. Ленин в тот период как бы раздваивается на человека, который все еще существует в этом мире, но которому под предлогом его болезни уже не дают комментировать собственные статьи и суждения, — и «ленинизм», который канонизируется и становится абсолютной истиной. Пытаться доказать, опровергнуть или осмыслить его нельзя. Тело Ленина стало как бы визуализацией абсолютной истины.
Это как-то связано с «парадоксом Лефора»? Когда официальный дискурс апеллирует к некоей внешней, абсолютной истине — Богу, царю, отцам-основателям. Стоит усомниться в ней, как под вопросом оказывается и сама власть.
Да, ленинизм был именно такой идеей. А в демократической системе — ее анализировал Клод Лефор — аксиомой является принцип всеобщего равенства. Он находится за пределами самого идеологического дискурса и пространства закона и должен быть принят как изначально верный. Конституции писались на основании этого принципа.
А если в нем усомниться, придется пересматривать всю идеологическую доктрину и система окажется очень уязвимой, как СССР во время перестройки, когда власть заявила, что хочет вернуться к «более правильному Ленину». Но какой он, более правильный? Искали-искали, но так и не нашли. И попали в свою же логическую ловушку: невозможно, с одной стороны, сказать, что «мы не знаем Ленина», а с другой — продолжать принимать его за истину, не поддающуюся сомнению. Выходит так: есть некая истина, но мы не знаем, какая. Как только это проговорили, все сдулось. Это заняло четыре года.
Партийные вожди сразу придумали эту метафору: «Ленин всегда живой» и ее зримое воплощение в мавзолее?
Конечно, не сразу. Сначала не было планов сохранять тело, об этом велось много дискуссий. Историками эта тема в общем-то исследовалась, но с большими неточностями, потому что не было доступа к архивам. Например, Нина Тумаркин пишет, что тело Ленина сохранили, так как это напоминало святые мощи. Ничего подобного — понимаешь ты, если знаешь, как работает лаборатория. Во многом это ключ к пониманию всей советской идеологической системы.
Звучит как совершеннейшая фантастика.
Это вызывает удивление, потому что мы привыкли четко разграничивать области знания: вот политика, а вот биология. Но надо подходить ко всему этому как к единому «полю» и смотреть на него изнутри. Иначе можно выдумать что угодно.
Читайте также

Долголетие расширяет горизонты
Новые потребительские рынки в стареющем мире
19.04.19

Сколько денег мир на самом деле задолжал Китаю?
Что нужно знать о влиянии Китая на мировой финансовый рынок
27.03.20

«Прекратите искать работу»: как изменится рынок труда в XXI веке
Почему не нужно становиться сотрудником корпорации после получения MBA
11.04.17