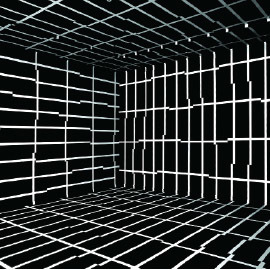Экономисты не только строят модели и проводят расчеты, но и борются с вековым проклятьем нищеты: в 2019 году Нобелевский комитет присудил премию именно за это. О том, какие меры борьбы с бедностью предлагают экономисты и почему в России неимущих стало больше, рассказывает профессор Высшей школы политических наук (Sciences Po) в Париже, в прошлом — ректор Российской экономической школы и главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев (признан иноагентом).
HBR Россия: Тысячелетиями люди придумывают полезные устройства, в основе которых лежат законы физики. Есть ли у экономистов амбиции улучшить жизнь людей на основе открытых ими законов?
Гуриев: Когда я поступал в МФТИ, мне казалось, что для прогресса важнее всего открытия в физике и развитие технологий. Это был 1988 год, и тогда шли дискуссии о том, скоро ли откроют настолько дешевые источники энергии, что исчезнут все ограничения и наступит всеобщее процветание. Но мои студенческие годы пришлись на переход к рынку, и, как пишет Виктор Пелевин, когда Советский Союз начали улучшать, он улучшился настолько, что перешел в нирвану. Мне стало понятно, что наличие технологий не означает решения социальных проблем — ни в СССР, ни в других странах. Сейчас доступ к замечательным технологиям есть не только в развитых странах, но и в бедных, которые никак не могут вступить на путь развития. Почему? Это вопрос не к физикам, а к людям, которые занимаются социальными науками. Чтобы технологии помогали повысить уровень жизни, нужно, чтобы общество и экономика были правильно устроены. Это, безусловно, и является главной задачей экономистов. И те экономисты, которых я знаю, в первую очередь видят в своей каждодневной работе именно такую цель: обеспечить процветание и развитие, избавить мир от бедности и страданий.
Но процветание одних не означает снижения уровня бедности в стране или в мире в целом. Кому интересна нищета, когда можно исследовать богатство?
Совершенно верно, борьба с бедностью — отдельная задача. Международное сообщество уже несколько десятилетий борется и, надо сказать, небезуспешно именно с крайней нищетой, стремясь снизить долю людей, потребление которых не достигает порога в $2 в день на человека. Сегодня в мировом населении их доля составляет 8—9%, тогда как 40 лет назад к крайне бедным относили более 40% людей. Расчеты ведут в сопоставимых ценах, то есть, когда ООН в 2000 году поставила задачу искоренения нищеты и голода в мире, порог обозначили цифрой $1 в день на человека (в сегодняшних ценах это $2 в день). Конечно, в развитых странах, да и в России, практически никто не живет на такие мизерные деньги — невозможно сравнивать бедность в Мозамбике с уровнем жизни сегодняшних российских, а тем более французских или американских бедных.
Среди экономистов многие ли занимаются именно проблемами нищеты?
В первую очередь в борьбу с крайней бедностью вносят вклад те, кто занимается развивающимися экономиками. Миссией огромного международного института — Всемирного банка — является как раз избавление мира от бедности. В нем работают тысячи экономистов, включая более ста исследователей. Есть и немало других международных организаций с похожими целями. Кроме того, в ведущих университетах мира практически везде на факультетах экономики работают люди, которые занимаются проблемами недостаточного развития, бедности и нищеты.
Когда проблема борьбы с бедностью стала мейнстримом для экономистов и как менялись их представления с тех пор?
Сразу после Второй мировой войны создание Всемирного банка предполагало именно работу над преодолением разрыва между бедными и богатыми странами. А трансформация экономической мысли по этому поводу отлично изложена в книге «В поисках роста» авторитетного экономиста Уильяма Истерли. Она была переведена на русский язык, я написал к ней предисловие и до сих пор ее всем рекомендую. В первой части глава за главой Истерли рассказывает именно о том, как менялось представление экономистов о том, что нужно сделать, чтобы одолеть бедность, какие реформы предлагались в 50-х годах, в 60-х годах, в 70-х годах, и о том, как многие из этих попыток не сработали. В итоге Истерли приходит к выводу, что до тех пор, пока мы не справимся с проблемой коррупции и плохого качества госуправления в развивающихся странах, мы не сможем им помочь. И это понимание, в конце концов, привело к тому, что все институты развития, включая Всемирный банк, Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), где я работал, ставят во главу угла улучшение качества государственного управления и борьбу с коррупцией. Это теперь не просто какая-то абстрактная побочная проблема, а составная часть мандата этих институтов. Потому что, если вы пытаетесь помогать бедной стране с коррумпированным правительством, вы тем самым увеличиваете количество денег на счету в Швейцарии у руководителей этой страны, что никак не помогает бедным. В целом экономисты осознали, что качество институтов и госуправления гораздо важнее, чем инвестиции в инфраструктуру или даже в образование. Есть много исследований, которые показывают, что даже эффект инвестиций в образование при высоком уровне коррупции будет невелик. Если же эти инвестиции подкрепить борьбой с коррупцией, то реформы помогут повысить качество человеческого капитала.
Вы сказали, что в 1950—1970-е годы какие-то планы не сработали. Что оказалось эффективным и какова была роль экономистов? Продумывали ли они эти планы или все решали политики?
Экономические идеи, безусловно, играют ключевую роль. Как сказал Джон Кейнс, те, кто считает, что обходится без экономистов, на самом деле руководствуются давно потерявшими актуальность представлениями, заимствованными у экономистов прошлых времен. План Маршалла — пример того, как кейнсианские представления об экономике сработали. После Второй мировой войны разрушенная Европа 30 лет быстро росла, и до сих пор этот период называют благополучным, «славным» тридцатилетием. В чем отличие плана Маршалла от помощи развивающимся странам? Ровно в том, что в послевоенной Западной Европе государственные институты были демократическими и менее коррумпированными, чем, скажем, в африканских или азиатских странах. В теории изначальный план Всемирного банка простой и правильный. Если страна находится в ловушке бедности и не может позволить себе инвестировать в инфраструктуру или даже просто в заводы, то, получив кредит, она ускорит темпы роста и вернет кредит. Идея Всемирного банка именно в том, что вырваться из ловушки бедности поможет некий, пусть даже временный толчок. Но, как мы видели, эта идея работает только в странах, где есть подотчетность правительства.
Какие еще факторы могут помешать программам международной помощи добиться результатов?
Правительства, особенно в больших и недемократических странах, часто инвестируют не туда, куда надо. Истерли много пишет о том, что во многих африканских странах на займы Всемирного банка строили дороги, которые вели в никуда, заводы, которые не могли ничего продавать и экспортировать, потому что на это не было спроса. Я, работая в ЕБРР, видел такие примеры и в посткоммунистических странах. В некоторых недемократических странах госпредприятия получали большие кредиты от госбанков и не могли использовать их на построение эффективного производства, потому что у них не было стимула, особенно к тому, чтобы конкурировать на внешнем рынке. Безусловно, государство не может заменить рынок. Поэтому примерно в 1970—1980-х годах возникло понимание того, что нужно давать деньги не только правительству, но и компаниям, чтобы правительство могло инвестировать вместе с частным сектором. Если хотите, это еще одна новая идея, родившаяся в последние десятилетия.
Какой объем средств международные институты готовы инвестировать в развивающиеся страны?
Даже сегодня при огромных бюджетах Всемирного банка, региональных банков развития, китайских институтов развития, у которых очень много денег, и таких программ, как USAID (Американское агентство международного развития) и его партнеры в Германии, Англии и во Франции, бюджеты на помощь бедным странам несопоставимы с их потребностями. Говоря о глобальных целях устойчивого развития ООН, мы понимаем, что нужно каждый год инвестировать примерно $2 трлн. А у всех международных институтов, которые борются с бедностью, бюджеты в сумме составляют примерно $150—200 млрд в год, то есть на порядок отстают от потребности. И единственный способ преодолеть отставание — это привлечь частный сектор. Поэтому существует Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного банка и работающая с частным сектором. И именно поэтому созданный в 1991 году — по историческим меркам совсем недавно — Европейский банк реконструкции и развития работал и работает по модели вовлечения частного сектора.
Частные филантропические организации ставят перед собой сходные задачи — если не глобально искоренить бедность, то накормить, вылечить или обучить какие-то группы населения. Каков их вклад в решение проблем?
Частные фонды делают очень важную работу. Фонд Сороса и Фонд Билла и Мелинды Гейтс тратят миллиарды долларов. Но, как я уже сказал, проблема в том, что нужны триллионы. Есть еще один важный институт — это impact investments. Очень многие фонды, инвестируя по всему миру, в том числе в развивающихся странах, пытаются измерять импакт, то есть социально-экономический эффект в преодолении бедности — или неравенства между мужчинами и женщинами, снижения загрязнения окружающей среды или какой-либо другой цели. Это замечательный тренд, но весь портфель инвестиций такого рода фондов — сотни миллиардов долларов (не в год, а всего). В решении проблемы глобальной бедности вся надежда на то, что, помимо благотворительных фондов и инвесторов с импактом, удастся привлечь нормальных инвесторов, которые хотят максимизировать прибыль. Мы говорим об огромных суммах денег, которые лежат на счетах институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды. Многие из них инвестируют под нулевую или отрицательную процентную ставку. Они ищут доходность. Предложить им механизмы, при которых они могут заработать деньги и при этом помочь развивать инфраструктуру, бороться с проблемами окружающей среды или строить модели переобучения людей в бедных странах — это, безусловно, то, чем следует заниматься.
Большинство проектов ЕБРР — как раз займы (или инвестиции в акционерный капитал) частным предприятиям в развивающихся странах вместе с частными инвесторами. При этом во всех проектах ЕБРР отслеживается transition impact — вклад в построение устойчивой рыночной экономики. Как раз в мои должностные обязанности как главного экономиста входила методология оценки transition impact и устойчивости рыночной экономики. В 2016 году мы определили устойчивую рыночную экономику как экономику, которая обладает шестью ключевыми характеристиками: конкурентность, высокое качество госуправления и корпоративного управления, равенство возможностей, экологическая устойчивость, устойчивость к внешним шокам и интегрированность (наличие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры — как внутренней, так и требуемой для интеграции в мировую экономику).
Допустим, экономисты предложили программу. На каком уровне детализации она разрабатывается? Насколько тесно сотрудничают институты развития, в том числе банки, созданные для этой цели, с получателями помощи или инвестиций? Находятся ли они на местах во время выполнения своих программ?
Это как раз один из факторов, важность которых международное сообщество тоже начинает осознавать. Чтобы понимать потребности и барьеры развития на каждом уровне, нужно быть «в поле», в постоянном контакте с реципиентами и с коллегами в странах, в которых вы работаете. Нужно иметь свои офисы в странах, в которых вы инвестируете. Давно стало понятно, что нет единой модели развития или единого подхода, который решал бы проблемы всех стран в одинаковой мере. Лет 15 назад экономист Дэни Родрик и его соавтор Рикардо Хаусманн (сейчас они оба работают в Гарварде) придумали систему диагностики роста и объяснили, что к каждой стране, а иногда и к конкретной отрасли страны нужно подходить со своими вопросами: что сдерживает рост, на что делать упор? Сейчас их методы стали общепринятой практикой инвестиций в развитие. Во многих международных агентствах и финансовых институтах, прежде чем написать стратегию работы в какой-то стране, требуется провести диагностику развития, частного сектора и роста, чтобы понять, чем, условно говоря, Тунис отличается от Египта. Институты развития все больше осознают, что им нужны офисы на местах. Например, у ЕБРР вплоть до 2014 года, когда он прекратил инвестировать в новые проекты в России, было семь офисов в РФ. Чтобы грамотно инвестировать, нужно понимать, чем потребности Владивостока отличаются от потребностей Ростова.
Недавно получившая Нобелевскую премию по экономике Эстер Дюфло призвала экономистов не просто продумывать программы, как ученые, но и моделировать, как инженеры, и даже «прилаживать по месту» — как водопроводчики. Насколько экономисты в состоянии это делать?
Разные экономисты умеют это делать лучше или хуже. Эстер и другие ученые создали методологию работы экономиста, экспериментирующего «в полях». Нобелевскую премию в этом году получили три самых главных «водопроводчика» в экономике — Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер, которые популяризировали использование рандомизированных экспериментов в экономике развития. И теперь очень многие международные финансовые институты используют такие эксперименты, чтобы понять, как конкретно проводить программы помощи бедным странам. Каким образом лучше подкрутить и приладить друг к другу детали, например, в программе помощи школьникам, микрофинансовым организациям, женщинам-предпринимателям. Как строить дороги, чтобы не украли деньги. Все эти важные моменты можно исследовать экспериментально. Но, безусловно, экономика развития не ограничивается этим. И многие экономисты критикуют «водопроводчиков» за то, что рандомизированный эксперимент, в конце концов, говорит о том, как именно бороться с болезнями школьников в Кении, но необязательно эти уроки можно применять в Уганде. И это очень серьезный вопрос — можно ли ограничиваться только рандомизированными экспериментами, фокусироваться только на роли экономиста-водопроводчика.
И ВСЕ-ТАКИ ИНСТИТУТЫ
Давайте вернемся к коррупции и к институтам. Вы сказали, что экономисты пришли к выводу, что хорошие институты — важнейшее условие развития. Есть ли у них доказательства этого утверждения?
Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон написали книгу, отвечающую на ваш вопрос. По-русски она называется «Почему одни страны богатые, а другие бедные», и в ней обсуждаются эмпирические доказательства того, что институты помогают развитию. Но на самом деле дискуссия продолжается. Не все экономисты убеждены в том, что институты — это единственный или даже самый важный фактор роста. Как правило, речь ведут о четырех факторах: география, человеческий капитал (например, уровень образования), институты и культура (в экономике культура понимается как набор социальных норм, предпочтений, привычек и т. д). Эти факторы влияют друг на друга, поэтому, действительно, трудно однозначно ответить на то, что самый значимый — это именно институты. С другой стороны, подумайте, можем ли мы изменить географию? Есть страны, которые время от времени двигают свои границы, но в целом большинство государств смирилось со своим местом на карте. Человеческий капитал — безусловно, важный фактор, и инвестиции в него могут помочь развитию страны. Но, как я уже сказал, если у вас коррумпированное правительство, то скорее они не помогут. Институты — это то, что можно изменить, и, как ни странно, довольно быстро. Если нужны убедительные примеры, то это, конечно, Северная и Южная Корея и Восточная и Западная Германия. Страны, которые пошли разными институциональными путями и за несколько десятилетий разошлись по уровню жизни в разы (в случае Германии) и в десятки раз (в случае Кореи). Этот аргумент доказывает, что культура точно не является определяющей для развития.
Есть ли количественные данные, показывающие степень влияния качества институтов и коррупционности на развитие стран?
В книге Аджемоглу и Робинсона как раз приводится обзор таких количественных исследований. Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития недавно опубликовал ежегодный отчет — Transition Report, посвященный именно вопросу связи коррупции и качества институтов и экономического роста. В нем мы на основе многочисленных межстрановых и глобальных опросов домохозяйств и предприятий, используя современные эконометрические методы, показываем, что коррупция дорого обходится экономике страны. В опросы включены данные стран посткоммунистического региона, и я могу упомянуть, например, такую оценку. Если бы Украина (на сегодня она немного менее коррумпирована, чем Россия) вдвое меньше отличалась по уровню коррупции от развитых стран, то есть была бы, скажем, на уровне сегодняшней Хорватии, то это добавляло бы ей один процентный пункт экономического роста на протяжении 25 последних лет. А в бизнесе, если предприятие сталкивается с коррупцией на одно среднеквадратичное отклонение меньше, чем другое, то оно растет примерно на 1,5% в год быстрее. На уровне домохозяйств качество госинститутов и уровень коррупции существенно влияют не только на уровень счастья, но и на желание покинуть страну — даже с поправками на уровень дохода домохозяйств и доступность общественных благ. Граждане понимают: сегодня у меня есть деньги, но поскольку страна коррумпирована, у нее меньше шансов на быстрое экономическое развитие. Поэтому коррупция действительно обходится дорого.
Можно ли привести пример успеха в борьбе с коррупцией?
В Грузии за несколько лет удалось победить коррупцию, и это привело к быстрому экономическому росту. Этот пример теперь входит во все учебники.
Допустим, чья-то железная рука очистила страну от коррупции. Но где гарантии, что все не вернется на круги своя?
Посмотрим, что происходило в Грузии. Реформаторы добились фантастических успехов. Но, кроме того, они сделали несколько ошибок, и это стоило им победы на выборах 2012 года. С тех пор в Грузии, действительно, произошел откат с точки зрения качества демократических институтов и коррупции на верхних этажах власти. Сейчас коррупция верхушки в Грузии выше, чем была несколько лет назад. Но на нижнем уровне отката не произошло. И это связано с очень простым фактом. Общество увидело, насколько хорошо жить в стране, где бюрократы нижнего уровня — например, полицейские — не берут взяток. И поэтому достижения правительства Саакашвили в деле качественных госуслуг для населения и победы над коррупцией на нижнем уровне оказались устойчивыми.
Есть ли в нашей стране спрос на качество госуправления или люди просто не понимают, каким оно должно быть, потому что школа и вуз не объясняют механизмы экономического развития?
У нас с Дэниэлом Тризманом есть несколько статей, посвященных современным информационным автократиям. Так мы называем режимы, удерживающие власть недемократическим путем, но при этом не прибегающие к массовым репрессиям. На основе данных мы показываем, что образованная элита в такой стране хорошо понимает, что режим недемократический, использует цензуру и в целом идет не туда. И чтобы элита не призывала к смене режима, нужно либо кооптировать ее, предлагая деньги, либо заставить молчать — с помощью цензуры и точечных репрессий. Чем больше образованных людей в стране, тем труднее информационной автократии справиться с этим вызовом. Поэтому в странах с большим количеством образованных людей, скорее, вероятна демократия, чем диктатура или даже современная информационная автократия. В целом это так.
Но есть два исключения — очень образованные, но недемократические страны — это Россия и Сингапур. Сингапур, как вы знаете, движется в сторону демократизации, а Россия — нет. Обсуждая эти исключения, мы с соавтором говорим именно о том, о чем спрашиваете вы. Россия — чемпион по среднему количеству лет высшего образования на душу населения. Даже если ввести поправки на качество образования, Россия находится на уровне развитых стран. Но с точки зрения преподавания общественных наук, Россия далеко отстает от развитых и от многих развивающихся стран. В ней по-прежнему очень мало экономистов, политологов и социологов международного уровня, из-за чего студенты, которые изучают общественные науки, часто получают не знания, а старые стереотипы. Это огромная проблема, которая мешает образованной элите понимать, что происходит. Сейчас в России идет дискуссия, в которой представители власти говорят о том, что гуманитарии вредны и опасны. С нашей точки зрения, нужно больше гуманитариев — людей, которые изучают общественные науки глубоко и разбираются в том, как устроено общество.
РОССИЙСКИЙ СИНДРОМ
Поговорим о бедных в России. Недавние оценки Росстата, говорящие о росте их числа, попадали в первые строчки новостей «Яндекса» и вызывали удивление Кремля. Насколько они точны и достоверны и есть ли независимые оценки доходов российских домохозяйств?
Не думаю, что есть какая-то огромная проблема с качеством этой статистики. Все оценки так или иначе опираются на крупномасштабные опросы домохозяйств, их и ведет Росстат. Есть и независимые оценки, в том числе Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения Высшей школы экономики. Он включает панельное исследование, то есть опрос тех же респондентов на протяжении ряда лет — это достаточно большая репрезентативная выборка из 10 тыс. человек по всей стране. Сам опрос в нынешней форме проводится почти 25 лет, а при измерении одними и теми же методами нельзя не заметить, что бедность растет последние пять лет, хотя до этого снижалась, и с начала XXI века в России упала почти в два раза — с 28 до 15%, что было выдающимся достижением. Но в последние годы она начала расти.
В ЕБРР мы тоже проводили опросы, причем использовали одну и ту же анкету во многих странах. Есть и опрос Гэллапа (Gallup World Poll), который проводится каждый год последние 10 лет. Опросов, в том числе независимых, очень много, поэтому манипулирование данными о доходах населения практически исключено. Другое дело — цифры экономического роста. Тут все больше и больше сомнений. Оценки роста ВВП за 2018 год и за третий квартал 2019-го вызывают много вопросов, на которые пока Росстат не смог ответить. Но в целом, слава Богу, Россия не Китай — здесь можно проводить независимые опросы, выясняя доходы, потребление и цены, с которыми сталкивается население. Все это дает надежные данные об уровне жизни и бедности.
Каковы причины роста бедности в России в последние пять лет?
Во-первых, отсутствие борьбы с коррупцией и реальных мер по защите прав собственности, конкуренции, улучшению институтов и инвестиционного климата, а также санкции, контрсанкции, изоляция страны от международной экономики, приведшие к замедлению экономического роста. Во-вторых, отсутствие реальной подотчетности властей сделало ее приоритетом не борьбу с бедностью, а обогащение людей, политически связанных с высшим руководством. Эти два ответа на ваш вопрос, естественно, связаны. Потому что, если бы экономический рост был выше, то даже при тех недемократических институтах, при которых живет Россия, бедность сокращалась бы. Но, как мы видим, ВВП хоть и слабо, но растет, а доходы населения — нет. Из этого следует, что перераспределение доходов внутри страны устроено не в пользу среднего российского домохозяйства и, тем более, не в пользу бедных россиян.
Как санкции и контрсанкции повлияли на доходы страны?
По разным оценкам, речь идет о нескольких процентных пунктах ВВП за несколько лет. В каждый отдельный год ни санкции, ни контрсанкции, ни даже оба фактора вместе не давали больше, чем один процентный пункт замедления роста. Но не надо забывать, что до всяких санкций и контрсанкций российский экономический рост замедлился почти до нуля именно потому, что возникла такая модель, в которой рост и развитие перестали быть приоритетом. Российские власти говорили о необходимости модернизации и улучшения инвестиционного климата, но на деле боролись не с коррупцией, а с борцами с коррупцией. И сейчас, в ноябре 2019 года, они развязали полномасштабную кампанию против Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, иностранным агентом, запрещен в России и ликвидирован) — самой эффективной НКО, которая противостоит коррупции в Российской Федерации. Это четко показывает приоритеты власти.
В нынешней ситуации при существующих институтах какие первоочередные меры следовало бы применить для уменьшения доли бедных?
Отменить контрсанкции. Сделать так, чтобы сняли санкции. Перестать преследовать борцов с коррупцией и начать бороться с самой коррупцией. Снизить уровень государственного вмешательства в экономику. Восстановить хорошие экономические отношения с другими странами. Все эти меры описаны в учебниках и работают. Многие недемократические страны смотрят на Сингапур как на модель. Действительно, Сингапуру, где не было демократических институтов, удалось перевести страну, как говорил ее лидер Ли Куан Ю, из «третьего мира в первый». Но, если уж копировать Сингапур, не надо забывать, что в первую очередь это была борьба с коррупцией и создание законов, которые не дают стимулов к воровству. Ли Куан Ю говорил: для того чтобы бороться с коррупцией, главе государства нужно посадить двух-трех своих друзей в тюрьму — «они знают, за что, и вы знаете, за что». Второй рецепт от Ли Куан Ю я слышал своими ушами. В разговоре с высшими российскими чиновниками лет 10 назад он сказал: «Вы знаете, с соседями нужно не воевать, а торговать». Потому что без торговли, без иностранных инвестиций страна со средним уровнем дохода или бедная страна не может догнать развитые. Вот, собственно, простые советы от Ли Куан Ю.
А что можно сделать с таким запредельным уровнем коррупции, который сегодня наблюдается в России, притом в изоляции от мировой экономики? Только вещи второго или третьего порядка. И многие из них делаются. Очень хорошо, что российское правительство занимается инвестициями в инфраструктуру, в цифровую экономику, что есть много честных чиновников, которые пытаются сэкономить на расходах на цифровизацию, проводя честные аукционы. Но надо понимать, что пока не будет экономического роста — не будет и победы над бедностью. Экономического роста не добиться, пока нет инвестиционного климата, пока страна в изоляции, пока нет борьбы с коррупцией.
Что можно посоветовать российскому бизнесу в условиях низкой покупательной способности населения?
Отличный совет может дать любой бизнесмен из небогатой страны. Если внутренний спрос низкий — нужно выходить на глобальный рынок. Проблема здесь, конечно же, в том, что Россия сегодня изолирована от глобального рынка. У страны сложные отношения со всеми ее соседями, тем более с Европой и Америкой. Можно ли выйти на китайский рынок — это вопрос. Судя по тому, что говорят западные инвесторы, в Китае делать бизнес трудно. Поэтому все будет не так просто, к сожалению, и для российских предпринимателей.
Можно ли сделать российские товары дешевле?
Главные издержки российских производителей — коррупционный налог. В опросах Всемирного банка и ЕБРР есть вопросы вроде: какая доля издержек приходится на откаты и взятки в такой компании, как ваша? Это то, что называют коррупционным налогом. Я очень хорошо помню обсуждение на совместной коллегии Минэкономразвития и Министерства финансов 10 лет назад. Выступал тогдашний премьер-министр России Владимир Путин. Он спросил, есть ли какие-то вопросы, проблемы. В своем выступлении я сказал, что у нас отличная налоговая система, но коррупционные налоги высоки. На что Путин ответил: «Вы знаете, коррупция есть везде. Но я вам гарантирую, что скоро мы сведем коррупционный налог к нулю».
За 10 лет сделать этого не удалось. Официальные данные говорят о том, что, к сожалению, в России остается высокий уровень коррупции. И, если вы у меня спрашиваете, что нужно сделать, чтобы у российского бизнеса были более низкие издержки, я бы предложил победить коррупцию. Тогда, безусловно, у бизнеса повысится конкурентоспособность на глобальном и на внутреннем рынке.
Собираетесь ли вы вернуться в Россию?
Мне этот вопрос напоминает разговор Остапа Бендера и монархиста Хворобьева, который советскую власть не любит и при этом все время видит неправильные, «советские» сны. И Остап ему говорит, что сон — это пустяки и что главное — это устранить причину сна, каковой является само существование советской власти. «Но в данный момент я устранить ее не могу, — говорит Остап, — потому что у меня просто нет времени. Я ее устраню на обратном пути. Дайте только пробег окончить».