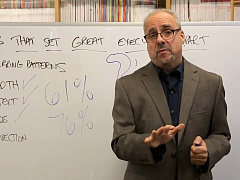Архитектор, художник Евгений Асс не только руководит собственным проектным бюро и работает над частными и государственными заказами, но и растит новое поколение архитекторов. Проработав почти четверть века в ведущем архитектурном вузе страны, в 2012 году Асс основал собственный институт — Архитектурную школу МАРШ, обучение в которой строится на качественно новых принципах.
Вы происходите из семьи, в которой всегда были архитекторы. Значит ли это, что ваш путь был предопределен?
Мир архитектора сопряжен с заманчивыми атрибутами и аксессуарами, которые влияют на детскую душу. Когда вырастаешь среди рейсфедеров, циркулей, транспортиров, угольников, каких-то волшебных карандашей, рулонов и чертежей, то этот мир кажется таким волнующим и завораживающим, что любой другой уже не привлекает. К тому же, живя по соседству с мастерской академика Льва Владимировича Руднева, в которой работал папа, я проводил там много времени и видел, как рождается архитектура, как делаются макеты, лепятся интересные башенки. Все это соблазняло меня. Так что, наверное, это, действительно, предопределение.
Почему вы ушли из МАРХИ и основали свою архитектурную школу?
Я пришел в МАРХИ, когда все в стране жило идеей перестройки — в том числе Московский архитектурный институт. Ректор пригласил меня принять участие в перестроечном эксперименте: вместе с профессором Валентином Ранневым мы разработали программу экспериментальной учебной мастерской. Эта мастерская была задумана как автономная структура внутри института — с определенными правами, возможностями и льготами. Первые десять лет все шло хорошо.
Понятно, однако, что такой большой коллектив не может существовать без внутренних разногласий. Институт похож на театр — там примерно те же интриги, драмы. Кому достанется та или иная роль? Что делать со стариками, которые все еще хотят играть Ромео? Изменения, происходящие в таких институциях, точно отражают события в стране и царящую в ней атмосферу. Когда стала сворачиваться перестройка, у начальства сменились ориентиры и все процессы пошли иначе. С начала 2000-х жизнь нашей мастерской стала чрезвычайно сложной. Нас пытались вернуть в русло основной программы, мы стали терять идентичность. Эксперимент, который начался в МАРХИ на переломе 1988—1989 годов, свернулся. Оставаться у разбитого корыта и возвращаться к тем программам, которые существовали и без меня, не хотелось. Поэтому с МАРХИ я закончил.
Всерьез задумываться о создании альтернативной школы я начал в 2005—2006 годах. Но понадобилось много лет, чтобы сформулировать, чего я хочу, и дождаться стечения обстоятельств, чтобы воплотить все это в жизнь. Школу МАРШ мы открыли в 2012-ом.
Чем отличается ваша школа от МАРХИ: в чем ее, как вы говорите, идентичность?
МАРХИ очень хорошая давно сложившаяся школа. Однако история советской архитектуры оставила на ней, с одной стороны, блестящий, а с другой — тяжелый след. Школа на определенном этапе остановилась в развитии. Для любого творческого вуза это очень опасно. Так что мне захотелось изменить устоявшиеся там программы, методические и идеологические принципы.
Я считал, что нужно заострить и актуализировать проблематику образования, сделать его более гибким. Традиционное образование построено на изучении предметов, отдельных дисциплин: если ты их выучил, ты молодец. Современное образование, не только высшее, но и среднее, начальное, все больше склоняется к проблемному типу: изучаются не предметы, а крупные темы, проблемы, и вокруг них строится учебный план. Например, в этом году мы со студентами работали над темой «Переосмысление гравитации». В рамках этого «переосмысления» мы должны были обратиться к физике, астрономии, биологии, истории архитектуры, материаловедению и т. д. Комплекс исследований, который мы проводили, оказался гораздо более емким, чем если бы мы изучали отдельные предметы. Постижение дисциплин в применении к конкретному проекту становится более внятным, понятным и интересным для студента. Школа МАРШ отличается от МАРХИ тем, что, если там студент в течение курса изучает, скажем, 45 дисциплин и сдает по каждой из них зачет, а то и экзамен, то у нас есть четыре крупных проблемных модуля. Это принципиально иная методика обучения.
Ну, и, конечно, у нас другая среда и атмосфера. Все отечественные вузы построены на бюрократии и наследуют от Советского Союза принципы подчиненности, строгой иерархичности. Мы хотели это разрушить и создать демократичную, свободную образовательную среду, в которой преподаватели и студенты существуют на равных. То есть преподаватель — это не офицер, а студент — не рядовой. Это коллеги, которые взаимодействуют в процессе совместного творчества. И мне кажется, нам это удалось. У нас живая энергичная среда. Учиться у нас весело.
Почему вам это кажется важным?
Потому что жизнь в такой атмосфере приятнее. И все процессы, которые проходят в образовании, не кажутся уже столь болезненными. Я с ужасом вспоминаю свои сессии: каждый раз я шел на экзамен, как на суд, — с ощущением тревоги, с ожиданиям беды. И хотя в студенческой мифологии все это окрашено романтическим флером, на самом деле это настоящее мучение. Мне казалось важным избавиться от адского трепета и страха.
Что для вас преподавание?
Преподавание — это проверка самого себя. Чтобы что-то передать ученикам, нужно это переосмыслить, прокрутить внутри себя и зафиксировать. Студент — в некотором смысле зеркало: глядя на него, видишь нечто в себе.
В то же время я убежден, что процесс обучения творчеству — это чудо: строгих правил, освоение которых позволяет научиться создавать искусство, не существует. Выращивание архитекторов происходит иным образом, а именно — чудесным.
Что, помимо профессиональных навыков, должен давать студентам архитектурный вуз?
Что такое профессиональные навыки? Я не могу точно ответить на этот вопрос. Если имеются в виду технические навыки, то они нехитрые. Чтобы научиться чертить, большого ума не надо. Среди тех, кто оканчивает архитектурный вуз, есть люди исключительно способные к творчеству и порождению ценностей, а есть те, кто все правильно делает, но никогда ничего путного не сделает.
Архитектура — специфическая дисциплина. Нет людей, от рождения способных к архитектуре. Есть дети, которые с детства хорошо рисуют, у кого-то идеальный слух, кто-то способен к математике или прекрасно играет в шахматы. Все это хорошо видно. А что такое способность к архитектуре, сформулировать невозможно.
Это, кстати, одна из причин моих разногласий с МАРХИ. Там, чтобы понять, готов ли человек получить профессию архитектора, проверяют, умеет ли он рисовать гипсовые головы. Но о способности к архитектуре это не говорит. Другое дело способность к воображению. Ведь чем занимается архитектор? Он замышляет пространственную материальную конструкцию, которой не существует. Он в голове рождает некий образ, который постепенно во что-то оформляется. Проверить, есть ли у человека эта способность, очень сложно. Ее надо выращивать. Умение порождать ценные пространственные конструкции и образы, если нам удается его привить, и есть тот навык, с которым мы студента выпускаем в мир.
В манифесте нашей школы есть простая триада, которая кажется нам важной: мы воспитываем чувствительных, думающих и ответственных архитекторов. В известной степени, это и есть профессиональный навык. Чувствительность означает, что человек умеет глубоко чувствовать окружающий мир — погружаться в него, сопереживать ему, понимать его. Он многое видит, собирает всю доступную информацию, каким-то образом перерабатывает ее и свой чувственный опыт в голове, то есть думает, и реализует задуманное, относясь ко всему с глубочайшей ответственностью. Имеется в виду ответственность не только за устойчивость здания, но и по отношению к миру, к человеческой жизни, к природе, к сообществу, для которого он что-то делает. Эти качества архитектора кажутся мне исключительно важными.
В чем заключается ответственное отношение?
Есть техническая ответственность — например, инженера, мостостроителя за то, чтобы мосты стояли. А есть ответственность гуманитарная — в медицине, в образовании. Ответственность — важная составляющая творческой деятельности. В архитектуре, я считаю, она проявляется особенно остро: вы можете не читать книг, не ходить на концерты, но не можете не замечать архитектуру. Она присутствует в вашей жизни неотвратимо. Эта неотвратимость, осознание, что ты творишь для всех людей, повышает уровень ответственности. Какие послания содержит здание, пространство, созданное тобой? Какие смыслы ты вкладываешь в них? Что, по твоим предположениям, должны ощущать люди, проживающие или пребывающие в этих пространствах? С этим связана ответственность. И она гораздо более тяжелая, мучительная, чем ответственность за прочность и устойчивость.
Считаете ли вы, что архитектура, которая нас окружает, создана ответственными людьми?
К сожалению, по большей части нет. Но ощущает ли потребитель различия между архитектурой ответственной и случайной, беззаботной, то есть такой, в которой нет заботы? Я в этом сомневаюсь. Мне кажется, современное общество не ожидает ответственной архитектуры, по крайней мере, в том смысле, который в это понятие вкладываю я. Об этом можно только сожалеть. Мне кажется, архитектор сегодня воспринимается как враг всего хорошего. Например, построили дом, даже очень хороший, но не там, где его ждали. И сам факт возникновения этого дома — уже достаточный повод для того, чтобы архитектора размазать, как вредное насекомое. В то время как качество этой архитектуры и значение этого объекта могут быть гораздо выше, чем его оценка с точки зрения уместности или неуместности.
В этом случае, мне кажется, претензии общества будут не к архитектору, а, скорее, к застройщику.
Да, но переносятся они, как правило, на архитектора. Как бы я ни стремился к воспитанию ответственности, я прекрасно понимаю, что архитектура — единственная творческая дисциплина, в которой художник выступает заложником чужих интересов. Архитектор, за исключением редких случаев, когда он строит самому себе, тратит чужие деньги, работает на чужой земле и на чужих людей. В этом смысле его позиция очень уязвима. Нередко он не в состоянии отнестись с необходимой ответственностью к тому, что ему предлагается осуществить. А отказаться бывает сложно и даже невозможно: это единственный хлеб, который архитектор может заработать своим трудом. Иногда нравственные коллизии бывают разрушительными. Способные, чувствительные и думающие архитекторы оказываются в плену невыносимого заказа и страдают от этого. Хотя архитекторы вряд ли когда-нибудь договорятся, какой компромисс можно считать приемлемым, и примут единую нравственную доктрину.
Похоже, что архитекторы, которых вы воспитываете, обречены на страдания.
В известной степени да. Современная строительная индустрия построена в основном на жадности, а не на желании создать общественное благо. Но у меня есть надежда, что этот безумный мир хищного девелопмента когда-нибудь изменится под влиянием неких гуманитарных сил. Однако до тех пор, пока архитектор — лишь инструмент получения прибыли сообществом девелоперов, инвесторов и менеджеров, пока он не может задать собственную повестку дня, ничего не изменится.
Что нужно, чтобы провести изменения?
Нужны инициативные проекты — убедительные, привлекательные и отвечающие общественному взысканию. Архитекторам нужно больше взаимодействовать с гуманитарными институциями, а не только с бизнесом. Надо выходить с предложениями к людям, искать у них сочувствия и поддержки. Для этого нужны иные институты и иные властные механизмы. Вообще сегодняшнее общественное мнение чрезвычайно разнородно: от полного неприятия всего, что происходит в архитектуре, до восторга совершенно идиотскими архитектурными высказываниями.
Ситуация в архитектуре, которую вы описали, характерна, скорее, для нашей страны или это мировая тенденция?
Это мировая тенденция, во всяком случае, в странах с подвижной либеральной экономикой дела обстоят именно так. Конечно, есть некоторые очаги архитектонической культуры, где существует своего рода общественная цензура в хорошем смысле слова. Она ограничивает жадность и не позволяет крайним формам идиотизма воплощаться в жизнь.
Где находятся эти очаги?
Например, в Португалии — это бедная страна, но с очень развитой архитектурной культурой. Или в Швейцарии — это очень богатая страна, но там не принято демонстрировать свои деньги. В Скандинавии до известной степени дела обстоят так же. Строгая протестантская мораль не позволяет людям кичиться богатством, и жадность не является главным механизмом порождения городского ландшафта.
Как, по-вашему, в идеальном мире должны приниматься решения по градостроительной политике?
Должна быть какая-то система сдержек и противовесов, в которой можно отстаивать свои принципы. Решения должны приниматься демократическим путем, а не в кулуарах на основании коррупционных интересов. В обсуждении должны участвовать не только архитекторы, но и широкий круг экспертов — в том числе социальные работники, философы, представители местного сообщества, которые отстаивают реальные интересы горожан.
Такая коллегиальность очень важна, ведь мы многого не видим и не понимаем. Например, мы наблюдаем в Москве гигантскую строительную активность — но не знаем, что она отражает. Действительно ли это чей-то запрос? Я живу в центре и вижу бесконечное строительство на месте симпатичных старых домов. В большинстве новых зданий жильцов почти нет: свет там не горит. Я не до конца понимаю, кто выигрывает от этого. Нужно ли было сносить милый особнячок XIX века, чтобы построить на его месте огромный пустой жилой дом? Мы также видим, как в самых неожиданных местах возникают гигантские жилые кварталы, офисные центры, торговые комплексы. Что это означает? Является ли это утверждением общественного блага? Это комплексные проблемы, которые не начинаются с архитектуры, а заканчиваются ею.
Каков ваш прогноз: ждет ли нас светлое будущее в том, что касается градостроительства?
Прогноз пока не слишком благоприятный. Но все очень быстро меняется, и я допускаю, что по прошествии лет этак 30 архитекторы, в том числе выпускники МАРШа, с привитыми им гуманитарными ценностями выступят с предложениями по изменению системы городского планирования. Они станут частью общественной экспертизы и будут взаимодействовать с отзывчивой демократической властью, у которой не будет коррупционных связей с девелоперами. Но поскольку пока нынешняя институциональная система не предполагает такого развития событий, боюсь, мне не удастся пожить в столь счастливое время.