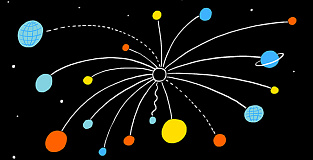Сейчас в условиях глобализации, когда, казалось бы, должна нарастать общность ценностей и стандартизация норм, в мире наблюдается всплеск традиционализма, национализма, этнического и религиозного возрождения. Чем это объясняется?
Действительно, уже почти 40 лет мы наблюдаем странное явление — взрыв интереса к традициям и использование традиционализма как политического знамени, под которым собираются силы, так или иначе сопротивляющиеся модернизации. Почему это происходит? До недавнего времени считалось, что сама стандартизация порождает сопротивление. Я придерживаюсь иной точки зрения. В этот период по многим причинам, прежде всего экономическим, бизнес, заинтересованный в сокращении издержек, перестал выполнять ту функцию, которую он выполнял примерно 200 лет, — функцию обточки, переламывания культуры, приспособления ее под нужды модернизации. Простота технологий, возможность их применения в любом месте, низкая стоимость пришлой рабочей силы и растущий дефицит собственной — все это способствовало тому, что бизнес стал приспосабливаться к сложившимся культурным особенностям, в том числе тех стран, в которые он переносил производство. Таким образом основной политический и интеллектуальный игрок, который несколько столетий реализовывал модернизационные идеи и немало преуспел в этом, фактически сошел с политической сцены. В это же время по ряду обстоятельств, одно из которых — деколонизация, огромный вес приобрела теория, рассматривавшая модернизацию как орудие колониализма, подавления культурного разнообразия и т.д. И это лишь часть причин возрождения в конце XX — начале ХХI века традиционалистских и националистических идеологий по всему миру.
Эти же причины вызывают проблемы и в России?
Что касается России, то можно говорить о наслоении огромного комплекса проблем: общеглобальных, связанных, например, с отсутствием единой концепции «общежития» разных культур, и местных, индивидуальных, связанных, в частности, с наследием имперского времени и с чрезвычайной культурной мозаичностью страны.
О каких концепциях вы говорите?
Двести лет в мире господствовала концепция национального развития, которая вначале была связана с культурной ассимиляцией, с объединением под эгидой некоей большой культуры. Потом, в конце ХХ века, она стала сводиться к теории культурной интеграции. Она не предусматривала полного устранения культурных различий, а предполагала лишь интеграцию в рамках некоего ограниченного круга общих ценностей — прежде всего, формальных правил игры, законов. Строго говоря, американская модель плавильного котла не была в чистом виде ассимилятивной, она не навязывала общую культуру, а предлагала тем, кто хотел адаптироваться, освоить язык и соответствующие нормы. У этой концепции были слабые стороны — и, вместо того чтобы устранить ее недостатки, от нее полностью отказались и перешли к другой, противоположной концепции мультикультурализма. Она признавала специфичность общин и предполагала житие бок о бок разных культур и единство в этом многообразии. Сейчас на смену мультикультурализму приходит интеркультурализм: его суть в том, что недостаточно уважать различия друг друга — нужно еще иметь общее дело, общие цели.
Можно ли искусственно создавать эти общие цели?
Да. От хорового пения, скажем в Прибалтике, до войны с внешним врагом; от борьбы против коррупции, которую использовали, например, в Италии для национального объединения, до борьбы с бедностью, которую сегодня ведут в западноевропейских странах.
Какие внутрироссийские проблемы приводят к всплеску традиционализма и ксенофобии?
Во-первых, отсутствие единой системы управления национальной политикой. Когда-то она существовала, но уже десять лет у нас нет ни органов, ни институтов, ответственных за разработку и внедрение соответствующей законодательной системы. Еще большую проблему представляет собой само отсутствие концепции национальной политики. Если в Европе за последние 40 лет сменилось несколько базовых концепций, то у нас только в совет ское время была некая общая модель — интернационализм. Во-вторых — серьезные ценностные проблемы: у нас человеческая жизнь вообще ценится очень низко, а жизнь человека чужого, представляющего другую культуру, и подавно, поэтому в России, судя по материалам международных сравнительных исследований, уровень ксенофобии — один из самых высоких в современном мире. В-третьих, целый круг проблем вызван неопределенно стью статуса национальных территорий. У нас, с одной стороны, очень жесткая вертикаль власти (национальными территориями, согласно принципу империи, руководят назначенные центром наместники), а с другой — эта вертикаль имитационная ( наместники только делают вид, что слушают центральную власть, а сами проводят политику, выгодную региональным кланам). Скажем, Рамзан Кадыров, неоднократно называвший себя прямым наместником национального лидера России, создал теократический режим, противоречащий конституции страны. И наконец, у нас существует проблема перевода недовольства — из сферы социально-политической и экономической (конфликты «начальник — подчиненный») в сферу этническую (конфликты «свой — чужой»). Прак тически весь Северный Кавказ — это сложное переплетение социально экономических проблем, которые проявляются в форме межэтнических или — особенно в последнее время — межрелигиозных противоречий.
То есть характер конфликтов со временем меняется?
Да. В 1990-е годы, после распада СССР, который хоть и числился федерацией, на деле был империей, национальные элиты попытались наполнить реальным содержанием формальный федерализм — то есть выстроить у себя институты власти за счет самоуправления и самоорганизации. На этой почве вспыхнули конфликты, особенно на Северном Кавказе, в Поволжье и в Сибири. Проблемы ни в одном из этих регионов до сих пор не решены, и, я уверен, найдутся силы, готовые спровоцировать там серьезные столкновения. Сегодня самая острая ситуация на Северном Кавказе — и в силу экономического положения (самый депрессивный, дотационный регион), и в силу социокультурных особенностей (историческая память о Кавказской войне XIX века и депортации; к тому же совсем недавно была беспрецедентная для Европы Чеченская война с многочисленными жертвами). Но все это отголоски проблем 1990-х годов, а в 2000-е суть конфликтов несколько изменилась. Сейчас они связаны не столько с взаимодействием национальных республик и центра, сколько с отношениями между пришлым населением, мигрантами, и принимающей стороной в крупнейших городах страны. Если в 1990-е годы наиболее активной силой этнополитических конфликтов были меньшинства, то сейчас — представители этнического большинства. В первые постсоветские годы конфликты были сосредоточены на окраинах России, а нынешний новый тип конфликта характерен преимущественно для центральной части страны.
Острота конфликтов зависит от размера населенного пункта?
Тут все однозначно: размер города соответствует размеру конфликта. Больше всего конфликтных ситуаций в Москве, потом идут Петербург, Нижний Новгород — и далее по убывающей. В крупные города, сосредоточенные в центре, в самом привлекательном месте с богатыми социально-экономическими ресурсами, тянутся люди — и иммигранты из новых независимых государств, и «свои» мигранты из республик Российской Федерации. В этих городах сильнее всего проявляется неупорядоченность межэтнических отношений; там же у деструктивных сил больше всего организационных и информационных возможностей эксплуатировать возникающие конфликты в своих политических целях. Немаловажно, что в крупных городах фиксируется самый высокий уровень стресса, — а это серьезный конфликтогенный фактор, поскольку люди склонны выплескивать свое стрессовое состояние на других. Кроме того, в крупные города стекается в основном молодежь и чаще всего — мужчины. Поэтому там нередко возникают конфликты на сексуальной почве, которые тоже зачастую перерастают в межкультурные. Одна из самых распространенных причин этнических, религиозных и расовых конфликтов, причем во всем мире, — это упреки (обоснованные и мифологизированные) в посягательстве на «наших дочерей, сестер, матерей».
Многие мигранты сопротивляются интеграции в принимающее их общество. Насколько серьезна эта проблема?
Разные культурные группы проявляют разную степень готовности к адаптации. Например, мигранты из Молда вии, Белоруссии и даже из Грузии и Армении не склонны к самоизоляции, а, скажем, для китайцев или представителей Северного Кавказа, наоборот, характерна высокая готовность к анклавизации. Однако анклавизация, вопреки распространенному мнению, не всегда порождает конфликты. Приезжающие к нам китайцы часто вызывают раздражение местных жителей, но с ними почти не бывает стычек, поскольку китайцы замкнуты на себе и минимально проявляют свои культурные нормы за пределами очага расселения. А есть другие группы, например представители Северного Кавказа, которые отличает один и тот же тип поведения: желание демонстративно утвердить в новых условиях привычные для себя и непривычные для принимающей стороны культурные нормы. И это провоцирует двусторонние конфликты.
С чем связана разница в поведении мигрантов?
С исторически сложившимися культурными комплексами. Как показывают исследования, самые устойчивые культурные стереотипы у групп, сохраняющих традиционные отношения и подвергшихся наименьшей урбанизации. В неблагоприятной политической среде эта устойчивость провоцирует конфликты и дезинтеграционные процессы. Особенно ярко склонность мигрантов к сохранению и демонстрации традиций проявляется в российских мегаполисах: крупным городам нужна неквалифицированная рабочая сила, поэтому туда стекается сельское население, то есть хранители патриархальных традиций. С другой стороны, города иногда способствуют возрождению национальных культурных комплексов. Например, часто таджики, у себя на родине забывавшие, что они принадлежат к разным региональным группам, вспоминают об этом, поскольку вынуждены бороться между собой за рынки труда и жилье.
Однако поведение мигрантов во многом зависит и от условий, в частности, от политики принимающей стороны. Скажем, неправильно было бы утверждать, что все китайцы замкнуты по определению. Исследователи, изучающие потенциал китайской миграции, говорят, что есть и другие типы мигрантов, которые могли бы себя вести иначе: ориентироваться на более длительную жизнь в России, даже на оседание, на заключение брачных союзов. Но таких мигрантов нужно привлекать особыми льготами и отбирать еще на стадии формирования миграционных планов. Пока же миграция проходит стихийно, к нам едут китайцы, нацеленные на временное обитание, — и, оказавшись здесь, они воспроизводят один и тот же тип поведения. Они не заботятся о том, чтобы благоустроить территорию своего проживания, построить школу, создать вуз, и зона их обитания превращается в выжженную землю, а среда окончательно портится.
Искать причину конфликтов только в поведении приезжих было бы неверно — во многом виноваты и местные жители.
Безусловно. С одной стороны, у нас увеличивается количество плохо адаптирующихся групп, а с другой — возрастает количество внутренних факторов, не позволяющих местным жителям хорошо относиться к пришлым. Один из этих факторов — фобии. Социально-психологические исследования показывают, что фобии отражают не столько реакцию на поведенческие особенности мигранта, сколько внутреннее неблагополучие, которое выплескивается на других. Поэтому, даже если бы к нам приезжали самые милые люди, готовые адаптироваться, принимающее население относилось бы к ним настороженно.
Еще один важный фактор — низкая удовлетворенность властью. В начале 2000-х власть отводила от себя недовольство, направляя его на сравнение с «проклятыми 90-ми». Но время диахронного сравнения прошло: люди перестали утешаться тем, что когда-то было хуже, и стали сопоставлять нынешнее положение не с прошлым, а с настоящим: бедные сравнивают себя с богатыми, не имеющие власти — с власть имущими. В России закончилась монополия государственных СМИ, и активная часть населения получает информацию из интернета, а там господствует мнение, что власть — это жулики и воры. В условиях современной России это приводит не к гражданскому объединению людей, а к ксенофобии. Вспомните декабрьские события на Манежной площади в Москве: все началось из-за того, что милиция отпустила подозреваемых. Справедливо — несправедливо, это требует расследования. В массовом же сознании засело: их отпустили, потому что они заплатили. А кого отпустили? Не наших, не русских. Вот вам и повод для конфликта.
Во что может вылиться сложившаяся ситуация?
Однозначно сказать нельзя, потому что есть факторы, смягчающие эту проблему и обостряющие ее. Я уже говорил, как много у нас конфликтогенных факторов, а инструментов регуляции мало. Например, если западные страны могут решать проблемы за счет изменения квот на миграцию, предоставления благ и гражданских статусов мигрантам, то в России система подобных механизмов ограничена из-за того, что большая часть конфликтов связана не с иммигрантами — таджиками, узбеками, грузинами, а с коренным народом, со взаимоотношениями граждан, прежде всего из республик Северного Кавказа, и постоянным населением. И эту проблему за счет ужесточения иммиграционных запретов не решить. Кроме того, почти нигде в мире нет такого количества политических движений, открыто эксплуатирующих национализм — и русский, и антирусский. Их много, у них миллионы последователей. Однако эти движения разобщены, и это дает надежду на то, что потенциальная напряженность не перерастет в открытые столкновения. К числу умеренно обнадеживающих обстоятельств я бы отнес некоторое оживление гражданского общества России, его противодействие этническому и религиозному экстремизму в ряде регионов, особенно на Северном Кавказе.
Как предотвратить распространение ксенофобии? Может быть, следует воспитывать в обществе толерантность?
Я категорически против того, чтобы сводить дело к воспитанию толерантности. Одно из самых больших заблуждений — представление о том, что можно все оставить как есть, нанять хороших учителей и исправить ситуацию обучением правилам толерантного поведения. Это невозможно по нескольким причинам. Во-первых, у всех конфликтов есть политическая подоплека, в них всегда кто-то заинтересован — в той или иной мере. А во-вторых, даже если бы случилось чудо и все заговорили: «Мы в одной лодке, нам нужен мир, давайте приучать население к толерантности», — ничего бы не вышло. Ведь если школьника на уроке учат жить дружно, а дома он видит, как папа бьет маму, а сосед — соседа, все идет насмарку. Поэтому я уверен, что все социально-психологические процедуры, в том числе и воспитывающие толерантность, должны быть дополнительными — вмонтированными в широкий комплекс мер, изменяющих условия жизни.
И все-таки — с чего начать?
С изменения политического климата. Тогда можно будет рассчитывать на перемены и в информационной, и в образовательной политике. Этнические проблемы вытекают из политико-институциональных — они почти никогда не порождаются кон фликтом цивилизаций: киргизы и уз беки, русские и чеченцы веками жили на одной территории, у них сложились механизмы саморегуляции, и примеров нормальной жизни куда больше, чем конфликтов. Господин Кудрин на финансовой конференции вдруг сказал о необходимости честных выборов. Так вот к нашей проблеме свободные выборы, суд, которому верят, еще ближе, чем к финансам. Доверие к органам власти — абсолютно необходимое условие укрепления доверия между людьми, в том числе представляющими разные культурные общности.
А что насчет национальной политики?
Она тоже должна быть вмонтирована в политико-институциональные изменения. Потому что для перехода от общинной раздробленности к гражданскому единству, к гражданской нации нужны условия. И главное из них — появление граждан. Не может быть гражданского общества в стране, где нет граждан. Люди должны понять, что они — не подданные императора, а налогоплательщики, кормящие власть. И с этой точки зрения мы все равны. Тогда возникнет возможность для гражданской солидарности, противостоящей этнической, религиозной раздробленности. Этнокультурные общности начнут объединяться, только когда люди почувствуют себя не просто жителями одной территории, но и еще и деятелями. На этом и должна основываться национальная политика.