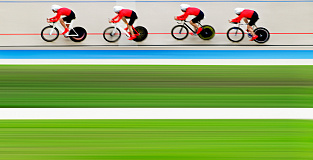читайте также
От редакции. Эту статью и другие материалы, опубликованные в рубрике «2020: Уроки стойкости», вы можете читать бесплатно. Если наш контент помогает вам преодолевать трудности нынешнего кризиса, лучший способ поддержать HBR Россия — оформить подписку.
О том, как вирус и меры, принимаемые для борьбы с ним, повлияют на состояние общества и основные аспекты нашей жизни, рассказывает кандидат исторических наук, профессор факультета антропологии ЕУСПб Илья Утехин.
HBR Россия: Во время пандемии люди стали настороженно относиться к любым контактам друг с другом из-за боязни заразиться. Повлияет ли это на то, как мы будем взаимодействовать в будущем, и на этикет в целом?
Утехин: Этикет, возможно, изменится. Раньше отсутствие дистанции между людьми — скажем, в метро, особенно в час пик, никого не смущало. Типичную картину можно было описать словами поэта Саши Черного: «Кто-то справа осчастливил, робко сел мне на плечо». Конечно, так принято не во всех странах: для американцев, например, важно, чтобы никто не вторгался в их личное пространство, поэтому они традиционно держат дистанцию. Сейчас и у нас из-за представлений об опасности увеличивается дистанция между людьми. Уйдет ли эта привычка, зависит от того, что мы, простые люди, а не специалисты, будем знать о коронавирусе.
Нельзя сказать, что обычный человек много знает о вирусах: вирус или микроб — это мифологический персонаж, герой невидимого мира, сила зла. Бытовые представления из любой области, будь то физика или история, мифологичны и слабо связаны с научным знанием. Все время мыть руки, носить перчатки и маску, может быть, в некоторых случаях и оправданно, но запросто может и не иметь под собой реальных оснований, поэтому и рекомендации специалистов разнятся. Нетрудно представить себе, что маска станет модным аксессуаром, а носить ее будет нормой, символом подчинения власти, спущенной выше норме. Народные дружины начнут отлавливать безмасочников как диссидентов, введут сертификацию масочной продукции надзорным органом. Облавы будут показывать по телевизору.
Избегание контактов с другими людьми и дистанцирование хороши, когда оказываются проявлением не столько собственного страха заразиться, сколько осознанной заботы о других людях, стремлением не заразить их, когда самоизоляция — это вклад в общее дело. А когда лезешь на стену, но не выходишь из-за страха перед заразой и полицейскими мерами, которыми запугивают население, это разобщает людей.
Вы говорите о разобщении, но мне кажется, мы видим рост солидарности и взаимопомощи. Люди записываются в волонтеры, помогают пожилым и врачам, покупают средства защиты для больниц.
Общинные связи между людьми, которые по той или иной причине оказались близки друг к другу, — между членами семьи, жителями одного подъезда, врачами и пациентами, пусть и потенциальными, — в кризисные времена могут усиливаться, так что попытка собрать деньги на средства индивидуальной защиты докторам и принести еду пожилым соседям зачастую оказывается гораздо важнее, чем культ самоизоляции.
Общество всегда находит способы спастись от государства в серой зоне, которую невозможно контролировать. Жить-то надо: людям нужно получать услуги, которые им оказывал бизнес, а бизнес, чтобы выжить, должен эти услуги предоставлять, потому что помощи от государства он не получает.
В то же время, мне кажется, растет доверие альтернативным институтам гражданского общества, в том числе благотворительным фондам и общественным организациям. Это признак укрепления горизонтальных связей. Может быть, я выдаю желаемое за действительное, но, как только доходы населения станут расти, люди будут чаще перечислять деньги на то, чтобы общество выполняло функции, с которыми государство плохо справляется.
Меняются ли ценности людей? Скажем, стали ли мы больше ценить свободу, после того как нам пришлось не по своей воле долгое время сидеть дома?
Наше общество устроено очень сложно. Россия — неоднородная страна: у нас есть столица и города-миллионники, средние и маленькие города, сельская местность, национальные республики. Это разные миры, и без поправки на это и на социальную группу толковать о единой системе ценностей можно только с оговорками. Свобода и международная мобильность как ее составляющая — ценность довольно узкого слоя населения. Если посмотреть, у какой части жителей России есть загранпаспорт и какая часть по нему летала куда-нибудь, кроме Турции и Таиланда, то окажется, что это очень небольшая группа. Но она важная, потому что от нее многое в стране зависит. Конечно, ценность личной свободы и мобильности разного рода для этих людей всегда была высока, но сейчас она существенно возрастет, как и ценность свободного доступа к информации.
На что еще влияют ограничительные меры, принятые правительством?
Для обывателя это выглядит примерно так: если раньше человек выходил на улицу и понимал, что ему ничто не угрожает (1990-е, когда была высокая уличная преступность, прошли), то во время самоизоляции он думает: «Если меня остановит наряд Росгвардии, что мне делать?». Когда контроль со стороны власти становится предметом озабоченности, появляются практики избегания этого контроля и растет недоверие властям. Любые рестриктивные меры — временные или постоянные — заставляют голь быть хитрой на выдумки. Например, известные запреты Роскомнадзора, связанные с интернетом, оказались очень благотворными в отношении компьютерной грамотности и стали лучшей рекламой для бизнеса VPN-провайдеров. VPN — технология, которая давно существует, но рядовые пользователи к ней обратились только благодаря действиям Роскомнадзора.
Пандемия окажется песочницей, в которой под благовидным предлогом тестируются способы гиперконтроля со стороны Большого брата. Любая угроза, например террористическая, становится поводом для введения новых мер и порождает «театр безопасности», интерактивную демонстрацию деятельности по обеспечению безопасности: при досмотре в аэропорту вас заставляют снимать обувь, изымают у вас пилку для ногтей и маникюрные ножницы. Возможно, эти меры настолько эффективны, что гарантируют вам почти полную безопасность. А может быть, реальная безопасность достигается иными, менее театральными путями и вообще не связана с вашими маникюрными ножницами. Как можно убедиться, значительно меньше людей в самолетах гибнет от пронесенных на борт бомб, чем, например, от ракет, которые сбивают эти самолеты.
Может ли изучение истории, в частности эпидемий прошлого, показать нам, как подобные события отражаются на взаимоотношениях государства и общества?
Можно посмотреть, например, на то, что происходило в холерные эпидемии. Тогда вспыхивали холерные бунты: бытовали слухи, что заразу распространяют врачи и власть, чтобы извести простой народ, и это вело к погромам и к тому, что теперь называют массовыми беспорядками. Такая параллель существенна тем, что отсылает нас к теориям заговора и фейкам, которые возникают в ситуации непрозрачной коммуникации властей с народом. Когда у людей мало возможностей на что-либо повлиять и нет информации, закономерно возникают разного рода конспирологические идеи, которые приписывают причину того, что происходит, действиям конкретного актора, пришедшего извне. Например, когда-то поговаривали, что ВИЧ придумало ЦРУ. Сейчас — что коронавирус либо изобрели китайцы в секретной лаборатории в Ухане, либо, как намекали китайские власти, занесли в Ухань американские военные. Все эти сообщения мелькали у нас перед глазами.
Аналогия с холерными бунтами — повод вспомнить, что теории заговора — плохой ориентир для принятия решений. А ведь теориям заговора подвержен не только «простой народ»: в высших эшелонах власти о многих вещах, не только о международной и внутренней политике, но и о коронавирусе запросто могут рассуждать в терминах конспирологии. Потребность найти внешнего врага и приписать ему какие-то интенции — не самая продуктивная, потому что она уводит нас от реальных действующих механизмов.
Пандемия повлияла и на то, как устроен наш быт, и эти изменения, на мой взгляд, более заметны. Например, мы видим, что общение на какой-то период перешло в онлайн. Не сказать, чтобы это было чем-то новым, но интенсивность интернет-взаимодействия существенно возросла. Поняли ли мы благодаря этому что-нибудь о его особенностях?
В отличие от очного общения, когда мы видим лица друг друга и физически соприсутствуем, взаимодействие, опосредованное Zoom или другой программой, требует больше сил и затрат энергии, особенно когда мы говорим не с одним человеком, а с группой. Дело в том, что мы эволюционировали для соприсутствия и непосредственного общения лицом к лицу; нам важно знать, слушают ли нас и понимают ли, — а узнаем мы об этом, наблюдая за реакцией собеседника. Такое наблюдение в интернет-коммуникации затруднено. Если вы целый день проводите в подобном режиме, то это существенно модифицирует само понятие присутствия. Вы не только там, где ваше тело, но и там, где фокус вашего внимания. Потребляя медийную продукцию, мы в принципе нередко распараллеливаем внимание и, говоря по телефону, одновременно делаем что-то еще, скажем ведем машину, выпиваем или готовим обед. Но когда внимание к чему-то, что не дает ожидаемого перцептивного отклика, систематически оказывается центром нашей деятельности, это требует формирования новых привычек и навыков. Без них мы жили хорошо, а вот как будем жить с ними — пока непонятно.
Что это за навыки?
Например, вы наверняка замечали, что даже небольшая задержка звука затрудняет разговор в скайпе. Люди, особенно когда не видят друг друга, а только слышат, и особенно когда слышат хотя бы и с небольшой задержкой, должны специально перенастраивать механизм смены очереди говорящего. Скажем, двое начинают говорить одновременно и одновременно останавливаются, чтобы уступить место. В обычном диалоге в реальном соприсутствии лицом к лицу мы не обращаем внимания на эту совместную работу собеседников по организации диалога, благодаря которой мы обычно говорим без больших пауз между репликами и без нахлестов одной реплики на другую — а в беседе по скайпу эта работа оказывается заметной.
Сейчас много говорят о плюсах и минусах удаленной работы. О том, выгодна ли удаленка бизнесу, высказываются многие. А насколько, с точки зрения антрополога, такая работа подходит людям?
Развитие европейской цивилизации со Средних веков шло по специфическому пути — мы последовательно разделяли места, где мы спим, работаем и проводим досуг. Это было обусловлено тем, что труд стал более специализированным и не связанным с поддержанием домашней экономики. Осматривать доктор стал в смотровой, обедать в столовой, спать в спальне и т. д. Разделение работы и бытовой повседневности, в том числе проживания, — принципиально важная вещь. Так что если мы вынуждены дома — в том же месте, где обедаем и спим, делать то же, что на работе, это большая проблема, которая не решается наличием нескольких комнат.
Так как же, по-вашему, мы будем работать в будущем?
Значительную часть офисной работы можно, как оказывается, делать не в офисе. Но я не хотел бы, чтобы это стало системой: не только потому, что некоторые вопросы гораздо эффективнее обсуждать лично, но и потому, что разделение личного и рабочего пространства — это и часть привычного нам качества жизни, и повод для социального взаимодействия, которое формально не является частью работы, но делает работу человечной, а отношения в коллективе — человеческими.
Надо сказать, что значительная часть приспособлений в области ИТ, которыми мы пользуемся для удаленной работы, появилась в результате исследований, которые ведутся с рубежа 1960—1970-х годов. То есть к тому, чтобы создать инфраструктуру для дистанционной коллаборации, от Zoom до GitHub, мы шли давно. Сейчас эта инфраструктура испытывает крэш-тест — а вместе с ней и мы. Жизнь поставила над нами социальный эксперимент. Возможно, он покажет, насколько для нас приемлемо работать удаленно. Пока эксперимент длится недостаточно долго, чтобы делать выводы.
А каковы последствия локдауна для системы образования?
Поскольку выясняется, что некоторые формы учебной работы с не меньшей эффективностью можно проводить дистанционно, то, возможно, они в будущем войдут в повседневность именно в таком виде. Однако полностью обучение в интернет не перейдет, и тому есть несколько причин.
Дистанционное образование — это не только курсы в записи и уж точно не просто видеозапись обычных лекций. Онлайн-курс на известных платформах — это новый тип продукта, рассчитанный на поколение, которое в принципе хуже воспринимает долгое говорение. Старый формат чтения лекций, когда человек что-то рассказывает полтора часа, интересен, только если этот человек кто-то вроде Гришковца. Отсюда необходимость переформатировать материал, разбить его на кусочки, сделать задания, ввести дополнительные стимулы для собственной активности ученика, продумать формы обратной связи. Создать такие курсы, которые открыты потенциально неограниченной аудитории и могут жить независимо от своего создателя, как книги или фильмы, — дорого и довольно сложно, хотя сейчас этим занимается бурнорастущая индустрия.
Но театр живьем всегда интереснее, чем в записи, даже в хорошей. То же с образованием. Изоляция вскрыла необходимость человеческого общения — причем не только с узким кругом родственников, с которыми вы заперты в квартире, но и с другими людьми. В очном обучении есть существенный элемент, помимо лекций и общения по делу. То, что происходит в коридоре, когда мы перекидываемся какими-то фразами с преподавателями и студентами, тоже важно. Когда вы учитесь дистанционно, этого критически не хватает: у вас нет возможности обсудить актуальные вопросы и просто поболтать. Перейдя на удаленную работу, мы завели коллективные чаепития со студентами: для них поговорить с преподавателями и обсудить насущные, хотя бы и не связанные с учебой темы — за чашкой чая перед компьютером, — это насущная необходимость.
Миллениалы и постмиллениалы выучивают многое — от игры на кларнете до философских теорий — с помощью «видосиков» на YouTube или подкастов на популярных платформах. Однако такое обучение, как и онлайновые курсы, не дает систематических знаний. Человеку, который учился по YouTube, нужен либо большой талант, либо внешнее руководство, чтобы сочетать то, что он узнал из одного видео, с тем, что он почерпнул из другого или прочитал где-то. Роль системы образования в том, что она выполняет функцию наставника — координатора и авторитетной инстанции в отборе источников, заданий, в определении того, куда и зачем двигаться. Это не значит, что за ученика все решают, как в традиционной системе высшего образования: есть ведь и либеральная модель, в которой выбор в значительной мере остается за учеником. Это значит, что ему задают рамки и стимулы, предоставляют опору. Ведь еще одна известная проблема дистанционного образования в том, что у людей зачастую не хватает мотивации и времени на то, чтобы прослушать все лекции и закончить курс. Бизнес-модель онлайн-курсов в этом отношении напоминает модель фитнеса: абонементы покупают многие, а пользуются ими не все или не на полную катушку.
Как, с вашей точки зрения, выглядит оптимальная модель образования?
Уже сейчас есть целиком онлайновое образование, и стоит оно меньше, чем образование, которое предполагает физическое присутствие. Фактически онлайновые курсы вносят в обучение элемент дискриминации. Дешевый вариант — когда ты получаешь образование онлайн и лично с профессором не общаешься, разве что в чате и то, скорее всего, с ассистентом. Дорогой вариант — для элиты — когда ты посещаешь занятия живьем. В этих занятиях может быть и мультимедийный, онлайновый элемент, встроенный в регулярный учебный процесс: лекции можно слушать онлайн, а обсуждать услышанное и общаться с профессорами — на семинарах. И ценность этого общения в том, что преподаватель транслирует не только знания, но и образ мысли, стиль рассуждения и разговора. Университет и конкретная кафедра с ее научной школой передают традицию через соучастие в академической — и неакадемической — жизни, а это нельзя передать на бумаге или дистанционно, для этого надо присутствовать и участвовать физически.
Сейчас делается масса прогнозов относительно того, что нас ждет. Как вы думаете, реалистичны все эти прогнозы — в том числе ваши?
Сейчас происходят события исторического масштаба. Но, находясь в их эпицентре, мы можем не осознавать, к каким последствиям это приведет. Когда большевики захватили власть, трамваи ходили, булочные были открыты и люди могли спокойно пить свой кофий, не понимая, что на самом деле они проснулись в другой стране и отныне все будет иным. Вполне вероятно, мы находимся в такой же ситуации: пока у нас горит свет, работает интернет, еда в холодильнике есть, магазины еще не закрыты. Но, возможно, уже произошли какие-то изменения (и историки будут называть началом перемен некую дату, которая уже осталась в прошлом), а мы этого не заметили. Редко кто наделен способностью отслеживать тектонические сдвиги: вынося суждения, люди опираются на привычные схемы и стараются во всем, что их окружает, видеть знакомое. Для незнакомого у нас нет готовых объяснений.
Беседовала Анна Натитник, старший редактор журнала «Harvard Business Review Россия»
От редакции. Эту статью и другие материалы, опубликованные в рубрике «2020: Уроки стойкости», вы можете читать бесплатно. Если наш контент помогает вам преодолевать трудности нынешнего кризиса, лучший способ поддержать HBR Россия — оформить подписку.