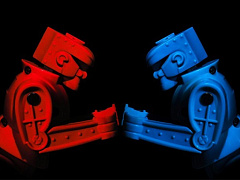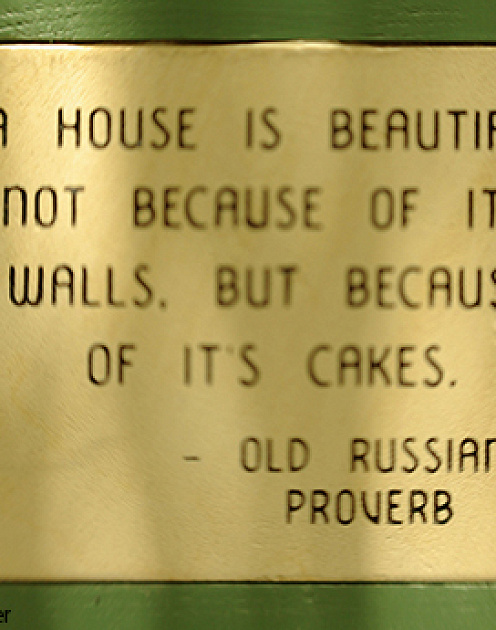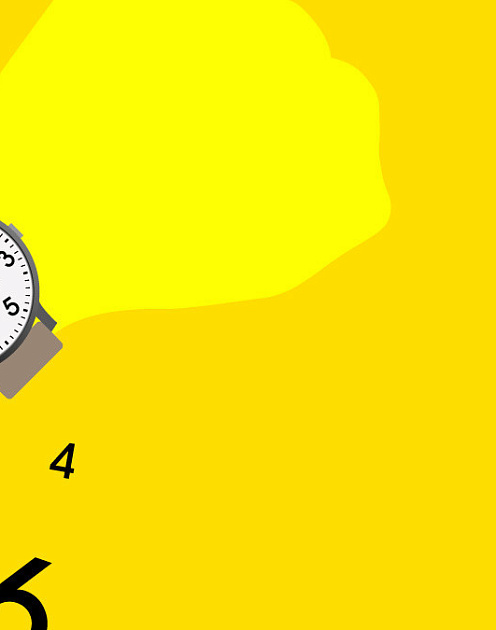Коммуникация — сложное явление. Мы понимаем человека не только по тому, что он говорит, но и по тому, как он это делает. В надежде «раскусить» собеседника мы достраиваем его образ, цепляясь за отдельные слова и манеру речи. Но в основном мы все же полагаемся на интуицию. Однако в этой игре есть правила, которые облегчают понимание окружающих. В чем они состоят, то есть что можно понять о человеке по его речи — устной и письменной, — рассказывает психолингвист, кандидат психологических наук, декан факультета психологии Московского международного университета Марина Новикова-Грунд.
На какие характеристики речи стоит обращать внимание, чтобы что-то понять про говорящего?
Например, на регистр или сравнительную высоту тона. У каждого из нас есть три голосовых регистра: средний (нейтральный, который мы используем почти всегда), верхний и нижний. При разговоре мы переключаем их неосознанно, автоматически, в зависимости от того, о чем говорим, с кем и какую цель преследуем.
Верхний регистр называют также детским. На этом регистре мы «выдаем» знания о мире, полученные в раннем детстве, но не подвергавшиеся критике, то есть впитанные, но непонятые, странные или стереотипные представления, которые мы ошибочно считаем своими. Если, когда нам было три-четыре года, важный для нас человек сказал: «Мой руки перед едой», то, повзрослев, мы эту фразу произносим «детским» тоном. На этот же тон переходят люди, когда говорят что-то вызубренное, то, во что они не верят. Поэтому так сложно слушать заученные доклады.
Верхний регистр означает принятие детской роли. Высоким голосом мы разговариваем с теми, кого уважаем и считаем более умными, опытными. Таким же тоном ругаются люди, которые не привыкли ссориться: выходя из своего нормального состояния, они «включают» регистр, характерный для детских перепалок.
Этот регистр, кстати, лучше слышен: когда разговариваешь с глуховатыми людьми или иностранцами, лучше использовать его.
А что вы скажете о нижнем регистре?
Когда мы опускаем голос, то неявно сообщаем: «я доминирую» и/или «я сексуальный объект». Мужчины, подходя к телефону, обычно говорят на тон ниже: вдруг собеседник на них «наедет» или на том конце провода окажется красотка.
Мы используем нижний регистр, когда нужно на чем-то настоять. Если изложить просьбу высоким тоном, нас не примут всерьез. А если, заняв к тому же высокую точку в пространстве относительно собеседника — например, сев на стол, опустить голос и вежливо авторитетно что-то сказать, то добьешься своего.
Есть люди, хоть их и мало, которые говорят монотонно, не переключая регистры. Что это означает?
Модуляций нет только у нездоровых людей: монотонная речь может свидетельствовать о разных соматических или психических проблемах. Например, если человек постоянно говорит высоко, значит, он чувствует себя ребенком, хочет, чтобы его обслужили, понянчили. Особенно это заметно у мужчин, которые разговаривают сдавленным голосом: сколько бы лет им ни было, они остаются детьми.
Если обычный человек вдруг начинает монотонно бубнить, это может означать, что он испытывает страх и не уверен в себе.
Есть также люди, которые сознательно не переключают регистры, разговаривая, скажем, с маленькими детьми: они объясняют это нежеланием сюсюкать.
Когда мы смотрим на ребенка, у нас рефлекторно делаются брови домиком, губы хоботом и меняется тон: нам нужно передать определенную гамму чувств и быть понятыми. Если человек разговаривает с ребенком так же, как со взрослым, с ним что-то не в порядке. В первую очередь это свидетельствует о его глубокой неадаптивности либо в этой ситуации, либо вообще в жизни.
На что указывает темп речи?
Во всех языках мира, кроме, кажется, одного экзотического, люди делают вдох между словами и говорят на выдохе. Так что по темпу речи и паузам можно понять, что происходит с дыханием говорящего. Если он расслаблен и говорит в нормальном темпе, то дышит спокойно; если его что-то беспокоит, пугает, дыхание сбивается. Пауза в нормальной речи — это редактирование: «Сказать или не сказать? Если сказать, то как?» Иногда паузу заполняют словами вроде «вот», «типа».
Вы упомянули слова-паразиты. Можно ли по их употреблению судить об эмоциональном состоянии говорящего?
Я не люблю термин «слова-паразиты». Эти слова не паразиты, у них есть функция. Чаще всего они действительно отмечают паузу. В «паразита» при желании можно превратить любое слово.
В роли «паразитов» часто выступает обсценная или близкая к ней лексика. Она позволяют говорящему дать выход агрессии. Любой самый грубый мат — это замена удара: место физической агрессии занимает символическая. Она неприятна, потому что это агрессия, но замечательна, потому что слово используется вместо дела.
Анализируя такие слова, нужно учитывать, в какой ситуации их произносят. Например, если я рассказываю коллеге о своей идее или разработке, вставляя в речь обсценную лексику, это показывает, что я одновременно испытываю удовольствие и страх (вдруг коллега найдет у меня ошибку, будет критиковать меня). Кроме того, это знак определенной близости. Именно поэтому родительские наставления: «Никогда не говори плохих слов» не совсем верны. Если в компании неприлично говорящих детей один будет поджимать губы и молчать, ему придется занимать позицию либо выше, либо ниже остальных, но не на равных. Попробуйте с прорабом на стройке договориться о том, что кирпич нужно положить особым образом. Вы не обойдетесь обычной лексикой. Мат — признак «своего».
Другое дело, если человек вставляет обсценную лексику через слово. Это говорит, скорее всего, о мозговых нарушениях, которые могут возникнуть, в частности, в результате сильной алкоголизации.
Если мы хотим понять что-то о человеке, стоит ли, на ваш взгляд, анализировать его лексические предпочтения — отмечать, какие слова он использует в той или иной ситуации?
Ловить и анализировать отдельные слова — занятие чаще всего бестолковое. Наша речь системна, и по одному или даже по десятку слов про человека, как правило, ничего сказать нельзя.
Есть исключения. Например, мы любим повторять слова, подцепленные от очень любимых людей, особенно учителей. Я по одной характерной фразе умею опознать тех, кто учился у тех же преподавателей, что и я.
Показателен ли выбор словоформ? Можете ли вы объяснить, например, почему многих раздражает употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов?
Потому что чаще всего оно свидетельствует о латентной агрессии. Это гиперкоррекция: вместо того чтобы напасть на нас, нам говорят: «сю-си пу-си, светлый человечек». Особенно явно агрессия проявляется, когда человек при этом говорит очень тихо, почти шепотом, монотонно и низко. Это знак опасности: говорящий может сорваться.
Использование уменьшительных суффиксов, кроме того, может быть признаком серьезного заболевания, например эпилепсии. Если ее не лечить, у человека меняется характер: он становится жестким, гневливым, неприязненным. Уменьшительные суффиксы дают ему возможность, во-первых, подавить свою агрессию, а во-вторых, решить свои речевые проблемы за счет удлинения слов. Конечно, ставить диагноз по тексту нельзя, но рассмотреть этот вариант стоит.
О чем свидетельствует выбор личных или безличных конструкций? Кто говорит «я хочу», а кто — «мне хочется»?
Когда выбирают безличную конструкцию (где нет действующего «я»), дают понять: «Это со мной происходит, я пассивен в этой ситуации». Конструкция с «я», напротив, показывает: «Я свободен, я беру на себя ответственность, я это сделал сам». Люди, которые заявляют: «Я подумал, я вспомнил, я захотел», в своем внутреннем пространстве всем распоряжаются сами. Но они же при этом могут говорить: «Мне однажды пришлось пойти, а там довелось встретиться». Значит, во внешнем мире они не чувствуют себя свободными. А бывает наоборот: человек, активно действующий во внешнем мире (он говорит: «Я пошел, сделал»), на вопрос «Почему ты так сделал?» отвечает: «Мне захотелось». Выбор между «я захотел» и «мне захотелось» — это выбор между «я ведом судьбой» и «я сам все делаю по своей воле».
Конечно, есть исключения. Если я говорю: «Я упал со стула», очевидно, что я это сделал не по своей воле. Русский язык так устроен, что что-то мы не можем сказать пассивно, а что-то активно.
Приведу пример из практики. Моя аспирантка писала диссертацию о женщинах, недовольных своим весом. Среди них были дамы, которые прочли все что можно на тему похудения, но ни разу ничего не предприняли. Когда я спросила одну из них, пыталась ли она хоть что-то сделать, она ответила: «Мне удалось почти два дня продержаться на диете. А потом по возращении с работы обнаружилось, что в холодильнике тортик. Этот тортик был съеден». Я поинтересовалась, как торт оказался в холодильнике у одинокой дамы, и она сказала: «Ожидались гости, а потом они отменились».
Можно ли изменить самосознание и поведение человека, научив его говорить «я»? Скажем, возьмет ли женщина из вашего примера свое пищевое поведение под контроль, если станет говорить: «Я съела торт»?
Если добиться того, чтобы человек начал говорить «я», то его поведение в какой-то степени изменится. Он наверняка сможет планировать свою жизнь и держать ее под контролем. Другое дело, что научить кого-то говорить «я» очень сложно. Это сможет сделать только тот, кому человек безмерно доверяет и кого уважает.
Безличные конструкции — одна из особенностей канцелярского языка. В определенных сферах, например юридической, это норма. Но почему этот язык используют там, где можно сказать все просто, по-человечески?
В юриспруденции это, действительно, цеховая традиция: юридические документы не каждый напишет и не любой прочтет. Но если обычный человек, пусть и из корпоративного мира, общается на таком языке, то, скорее всего, он пытается сделать так, чтобы его не услышали и не поняли. Например, он чувствует, что говорит ерунду или неправду. Если дело происходит, скажем, на совещании или на бизнес-встрече, то он, вероятно, не хочет выделяться и сообщает окружающим: «Я один из вас». В то же время он намекает: «То, что я говорю, не стоит слушать. Когда будет что сказать, я скажу это простым матерным языком».
А еще непонятная речь — это признак отстраненности и страха.
Если человек, выступающий на деловом совещании, перейдет на нормальный язык, сможет ли он добиться каких-то целей — например, привлечь внимание слушателей?
В среде, где говорят на канцелярите, перейти на человеческий язык непросто: это будет нарушением традиции. Мешают страх, застенчивость, скованность, желание спрятаться, ощущение своей низкой социальной роли. Человек рискует — те, кто не привык к нормальному языку, наверняка испытают раздражение: «Что он о себе думает?». С другой стороны, если он говорит серьезные важные вещи, он может существенно выиграть, выделившись из толпы. Сначала все напрягутся, а в конце скажут: «Было интересно, впечатлило».
По каким признакам в ходе диалога или монолога можно понять, интересно ли людям нас слушать?
Для этого есть замечательный инструмент — наши собственные эмоции. Если спросить человека, с которым разговариваешь, не скучно ли ему, ответ будет известен заранее: не скучно вам — не скучно и ему. Когда мы контактируем с кем-то, наши переживания подстраиваются друг под друга. Если я общаюсь с человеком и вдруг начинаю думать о своем, я понимаю: либо мой собеседник говорит что-то не то — например, не что хочет, а что прилично, — либо я. Это повод встряхнуться. То, что мы слышим в себе, — это то, что одновременно происходит с нашим партнером. Если я чувствую агрессию, если он меня раздражает, то, вероятно, я его тоже раздражаю.
Если на переговорах одна сторона вдруг заскучала, что это означает?
Что вторая сторона, вероятнее всего, говорит ни о чем, вешает лапшу на уши или уже приняла решение и сейчас просто издает звуки, чтобы потом вежливо уйти.
Скука — красная кнопка на нашем внутреннем пульте. К ней ведут всего два проводочка. Первый — неясность: либо мы не понимаем собеседника, либо он нас не понимает. Мы можем не понимать человека в том числе потому, что он говорит на другом языке или представляет иную культуру. Например, когда нам хамит продавщица в магазине, мы не понимаем ее языка. Она ведет себя по правилам своей микрокультуры: если входит чужой, надо показать «гордость». Моя любимая посадская пословица (посад — это предместье, где все еще знают друг друга в лицо, но уже никто ни с кем не здоровается) гласит: чем девушка строже и грубей, тем лучше качества у ей. Продавщица знает: если улыбнуться и поздороваться, то потеряешь достоинство и вы первые не будете ее уважать. И вас она не будет уважать, если вы войдете и скажете «здравствуйте». Она поймет: вы прогнулись.
Второй проводочек — ложь в широком смысле, увиливание: либо нам врут, либо мы. Может быть, мы сбились с темы: собеседник хочет слушать про одно, а мы рассказываем про другое.
За этой кнопкой надо приглядывать. Хотя культура нам говорит: мало ли что тебе скучно, возьми себя в руки и слушай. Но на самом деле всегда стоит разобраться, почему тебе скучно.
Отличается ли информация, которую можно получить на основе анализа устного и письменного текстов?
По устной речи можно судить о нынешнем состоянии человека, о том, как он себя чувствует в данный момент. Она отображает то неуловимое пространство «сейчас», которое мы почти не ощущаем.
Письменная речь менее ситуативна. Она вскрывает характеристики человека и его глубинные убеждения. Если нужно понять что-то про человека, можно попросить его что-либо написать. Этим пользуются психологи. Если они установили с клиентом доверительные отношения, то иногда не могут понять: говорит ли клиент своими или их словами. Для диагностики нужно увидеть письменный текст: там не будет привнесенного терапевтом и немедленно подхваченного клиентом.
Я знаю людей, которые утверждают, что способны по тексту определить пол и возраст человека. Это действительно возможно?
Возраст — да. Пол — нет: таких техник не существует. Многие заявляют, что определяют пол по выбору слов. Но это невозможно: лексика ни о чем не говорит. А возраст определяют по культурным деталям и метафорам.
Что еще можно понять по письменному тексту?
В построении сюжета отображаются некоторые поведенческие стратегии. Люди, которые что-то определяют по тексту, осознанно или неосознанно анализируют умолчания — то, что упоминается, но не описывается подробно. Брошенное — самое значимое. Не всегда можно реконструировать умолчания, но всегда можно понять: здесь умолчано что-то плохое. О приятном мы рассказываем подробно; описывая неприятное, используем абстрактные слова; о том, что для нас непереносимо, молчим. Но в сюжете от умолчанного остаются дырки.
Приведите, пожалуйста, пример умолчания.
Например, человек, претендующий на место в команде, пишет: работал там-то, решил такую-то задачу, мне помогали Иванов, Петров, Сидоров, добился успеха, потом перешел туда-то, и мне помогали такие-то. Вроде бы невинный текст. Но человек не сообщает, в чем состоял успех и почему он потом ушел в другую компанию. В этом месте умолчание. Реальный успех мы описываем подробно, с деталями — даже в резюме. Кроме того, по этому тексту можно понять: человек считает, что все должны ему помогать.
Сейчас люди стали много писать и переписываться. Но при этом стали допускать гораздо больше ошибок, чем раньше. Как это влияет на общую культуру речи?
Ошибок больше не потому, что люди стали безграмотными, — они во все времена начиная с Древнего Рима были безграмотными. Просто те, кто раньше ничего не писал, вдруг начали писать длинные послания. И это, на мой взгляд, — возрождение письменной культуры.
Письменная традиция — архаичная, она изменяется гораздо медленнее, чем устная. Исследования показывают: в языках, где есть письменная норма, фонетические и прочие устные изменения происходят значительно медленнее. То есть письменность частично сохраняет прекрасное лингвистическое прошлое.
Но культура письменной речи, мне кажется, меняется на глазах.
Она всегда менялась. Просто раньше между написанием художественного текста и его изданием проходило много времени, и эти изменения не так бросались в глаза. А когда это происходит на наших глазах, то все видно. Сейчас, кроме роста числа ошибок, больше всего заметен переход к телеграфному стилю. Этот стиль мне нравится: он очень энергичный. Вместо того чтобы писать большой труд, теперь пишут несколько тезисов со ссылками. Это дает охват большой области — научной, литературной, межчеловеческого общения. А умение из мозаичных фрагментов выстраивать общую картину требует развитого интеллекта. Я считаю, что это великое развитие.
Прибегают ли спецслужбы к помощи специалистов, владеющих методиками анализа текста?
Ко мне иногда обращаются по криминальным, кровавым делам, чтобы я помогла восстановить ситуацию по тексту. Например, по текстам пятерых человек, которые врут и сваливают все друг на друга, можно определить, кто где стоял, кто стрелял и так далее. Их выдают предлоги, союзы, падежи, приставки — то, чего мы не осознаем. Любой текст пронизан пространственными отношениями, продублированными много раз. Там, где в тексте не восстанавливается пространство, что-то не так: человек либо врет, либо его там в это время не было, либо он был без сознания или под наркотиками.