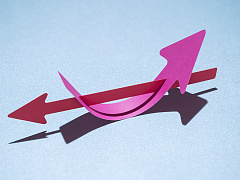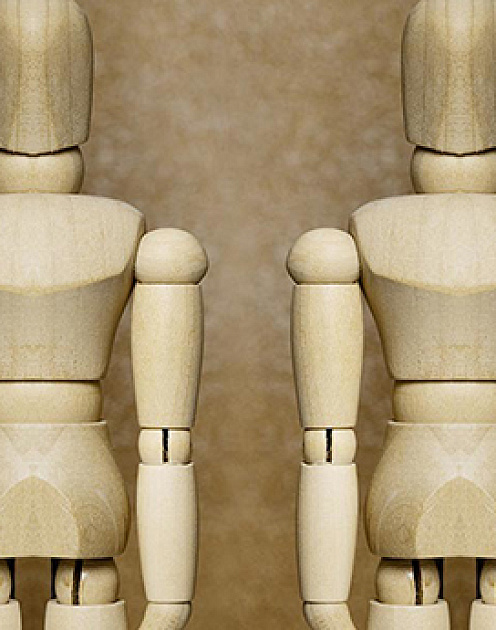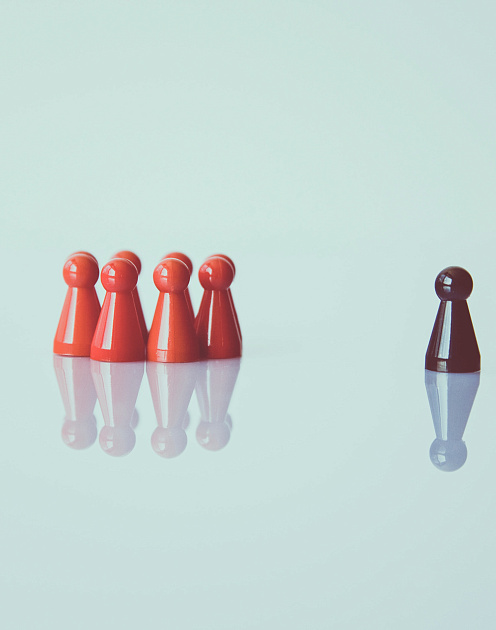Павла Палажченко профессиональное сообщество знает как переводчика-синхрониста, знатока «трудностей перевода», автора замечательного «Несистематического словаря» и других книг. Люди, которые интересуются политикой, помнят переводчика, который всегда был рядом с президентом Горбачевым на саммитах и других встречах. Журнал «HBR — Россия» расспросил Палажченко о том, что происходило на важнейших для страны международных переговорах и как к ним готовились.
HBR: Кто и как вырабатывает позицию страны перед переговорами на высшем уровне?
Палажченко: Она рождается в ходе трудных, порой затяжных согласований между ведомствами. Генри Киссинджер как-то даже сказал, что переговоры внутри администрации были для него труднее, чем с Брежневым и Громыко. И в нашей стране переговорная позиция вырабатывается таким же образом, то есть коллегиально. В горбачевские годы позиция по вопросам ограничения вооружений согласовывалась так называемой «пятеркой», в которую входили представители ЦК, Минобороны, МИД, КГБ и военно-промышленной комиссии Совмина. «Большая пятерка» — на уровне руководителей ведомств или их заместителей — формировала основу, а «малая» — на экспертном уровне — отрабатывала технические вопросы. В результате рождалось то, что называется «директивами» — это руководство к предстоящим переговорам.
Но, если все задано заранее, значит, переговорщики не могут ничего добавить от себя?
Если директивы готовятся для главного лица, то обычно достаточно гибко, чтобы у него оставалось пространство для маневра. Но иногда в директивах бывают и жесткие формулировки: «потребовать», «указать» или что-то подобное.
Кто присутствует за столом переговоров?
Зависит от уровня. Есть «высший уровень», есть «высокий» — это когда делегации возглавляют с нашей стороны министр иностранных дел, а, скажем, с американской — госсекретарь. На переговорах о разоружении присутствуют не только дипломаты, но и военные. В 1980-е годы, когда я участвовал в переговорах по разоружению в Женеве, они проводились в такой форме: сначала пленарное заседание, где делегации обмениваются официальными заявлениями, а потом они расходятся из-за общего стола и военные беседуют с военными, а дипломаты — с дипломатами.
А как встречаются первые лица государства?
Обычно сочетаются разные форматы: президенты возглавляют переговоры своих делегаций, но помимо этого встречаются тет-а-тет в присутствии только переводчиков (иногда еще по одному человеку для ведения записи).
Как готовятся к саммиту?
Саммит — это обычно кульминация переговоров и контактов на разных уровнях и по разным каналам. Раньше, во всяком случае, в годы, когда я участвовал в этом, центральное место на переговорах занимала проблематика стратегических вооружений. В столицах ведется работа на уровне ведомств: на основе «предложений с мест», прежде всего военных и ВПК, определяются желательные параметры будущего соглашения, уровни вооружений, порядок контроля и т. п. Затем начинают работать делегации. В мое время переговоры велись в Женеве. По-разному — иногда ни шатко ни валко, но ближе к саммиту — в бешеном темпе и с огромной нагрузкой на переговорщиков. Например, при подготовке вашингтонского саммита в декабре 1987 года наша делегация иногда сообщала из Женевы в Москву о каком-то предложении примерно так: «Если мы до 4 утра не получим от вас возражений, то будем считать эту позицию приемлемой». В итоге текст договора был готов к визиту Горбачева. Но по трем-четырем вопросам пришлось «дожимать», и Горбачев звонил министру обороны из Вашингтона по закрытой связи. Процесс согласования шел буквально до конца.
А от чего зависит скорость продвижения на международных переговорах?
Переговоры идут быстрее, если есть политическая воля достичь компромиссного результата. Но многое зависит и от того, есть ли между ведомствами внутри каждой страны взаимопонимание. Тогда чиновники быстро прорабатывают позицию и выносят ее на обсуждение. А в итоге все определяет степень доверия между сторонами, прежде всего — их лидерами.
А бывают на саммитах спонтанные уступки — может быть, взаимные?
Все существенные уступки зафиксированы в директивах к переговорам.
Подразумевается ли вообще какой-то торг?
Да, делегации начинают обычно с «запроса» или «запросной позиции». Говорится, например, о 200 единицах, а на самом деле допустимо дойти до 100. Но, по моим ощущениям, американский стиль переговоров не предполагает большого «запроса». Как правило, то, что выдвигается вначале, довольно близко к тому, на что в конечном счете они готовы пойти. Пытаться давить на них не очень перспективно. Обычно их начальные условия формулируются так, чтобы они были не очень далеки от окончательной позиции, но при этом не были абсолютно неприемлемы для другой стороны. Этот принцип, как мне кажется, нигде не прописан, но он существует. По воспоминаниям бывшего посла Джека Мэтлока, Рейган, когда ему говорили, мол, мы должны дожать на 100%, отвечал: «Когда я был руководителем профсоюза актеров, мы были рады, если нам удавалось получить 80%, и здесь надо действовать так же». У нас, к сожалению, иногда начальную позицию формулировали с большим «запасом», и потом приходилось отказываться от значительной части. Например, в 1981—1982 годах отношения с Западом были очень плохими, в процессе подготовки к переговорам по военным мерам доверия в Стокгольме просто не сработал здравый смысл и в пакет предложений накидали много такого, что не соответствовало согласованному с Западом предмету переговоров.
А когда все-таки происходят существенные подвижки?
Иногда помогает изобретательность дипломатов, возникают пакеты взаимных уступок, но чаще всего в процессе переговоров стороны просто начинают больше доверять друг другу, и дело сдвигается. Как правило, после визита или встречи министров одни вопросы решаются полностью, другие частично, что-то двигается, но нередко потом надо все-таки «дожимать». Вообще же, по моему мнению, результаты любых переговоров в первую очередь зависят не от дипломатических тонкостей, а от степени доверия. В годы перестройки эта степень была еще недостаточной для того, чтобы вопросы решались быстро. Затем постепенно и с зигзагами доверие между СССР (а потом Россией) и Западом росло. Соответственно и переговоры шли лучше. Скажем, договор СНВ, подписанный Медведевым и Обамой в 2010 году, потребовал всего года подготовки, а к договору СНВ-1, который заключили Горбачев с Бушем в 1991-м, шли шесть лет. Сейчас в наших отношениях с Западом наступил коллапс доверия, очень трудно оно восстанавливается и вряд ли быстро достигнет прежнего уровня.
Советские руководители не всегда вели себя адекватно, и их переводчикам, наверное, приходилось тяжело.
Всякое бывало, но я не назвал бы ни Хрущева, ни Брежнева неадекватными людьми. У них были разные периоды, а для Брежнева шесть лет после инсульта просто физически были очень тяжелыми. Я тогда был переводчиком ООН в Нью-Йорке, потом в МИД, наблюдал это с довольно близкого расстояния. Но переводчик в любом случае должен сохранять достоинство и профессионально выполнять свои обязанности. Виктор Михайлович Cуходрев работал с Хрущевым и Брежневым в самые тяжелые годы. В его мемуарах есть критические стрелы, но нигде он не характеризует руководителей государства как людей неадекватных, хотя, конечно, Хрущев нередко принимал чисто эмоциональные решения — например, прекращение переговоров с США после инцидента с Пауэрсом. Но такое и после Хрущева бывало.
А в чем вообще роль переводчика на переговорах?
Главное, конечно, хорошо переводить, и для этого знать и языки, и терминологию. На дипломатических переговорах переводчик — «член команды», что налагает дополнительные обязательства и в то же время дает ему возможность глубоко подготовиться, быть в курсе предыстории, технической проблематики. Его нередко заранее посвящают в замысел переговоров. Когда я работал в отделе США и Канады МИД, я в определенной мере участвовал в подготовке переговоров, обосновании нашей позиции. Эти тезисы, аргументы для бесед первых лиц в МИД называют «разговорниками». Руководители пользуются ими по-разному: скажем, министр иностранных дел Шеварднадзе засиживался над ними за полночь: читал, кое-что переписывал для себя от руки. Горбачев тоже всегда их читал, но использовал — причем довольно творчески — то, что считал нужным, оставляя кое-что на потом или для других уровней. У него стиль речи был более свободным, как бы «мысли вслух», то есть он старался нащупать формулировки в ходе разговора. Шеварднадзе, наоборот (может быть, потому что русский язык не был для него родным), предпочитал на переговорах отработанные формулировки.
Переводчик, наверное, хорошо чувствует своего патрона.
Находясь рядом, видишь гигантскую информационную и психологическую нагрузку первых лиц, поэтому умный переводчик, говоря о них, никогда не встанет в позу обвинителя. От меня вы точно такого не услышите. Просто потому, что я все это видел: работу без отпуска и выходных, огромную психологическую нагрузку, тяжесть взаимодействия с огромным числом людей.