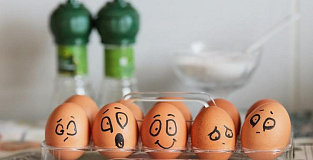Захар Прилепин ворвался в русскую литературу десять лет назад — и с тех пор чуть ли не ежегодно становился лауреатом самых престижных премий. Его последний роман «Обитель» получил премию «Проза года — 2014» и стал самой продаваемой книгой прошедшего лета.
HBR — Россия: Что для вас хорошая литература?
Прилепин: Критериев, схожих с кулинарными, здесь нет. Это вопрос опыта. Можно сказать, чего не должно быть в литературе, — пошлости в самом широком смысле слова.
Пошлость в литературе — это что?
Все, что рассчитано на упрощенное восприятие. Упрощение задачи, чтобы легче было пережевывать, этакий полуфабрикат. Заштампованная лексика, предсказуемые события, предсказуемая рифма — стихотворная или сюжетная, то, что уже неоднократно звучало. Ворованные слова — все вторичное, неживое. Если у писателя, даже обладающего широкими возможностями, омертвела душа, он начинает жульничать. Написать хорошее стихотворение или рассказ несложно, если знаешь ходы и выходы. Заставить читателя заплакать может любой: опишешь, как котенка переехал трамвай, — и все обрыдаются. А вот заставить его сопереживать, быть милосердным, испытать вдохновение, восхищение, радость — более сложная задача.
Должна ли литература быть этичной, утверждать какие-то ценности?
Литература не думает за дурака — она ходит по самой грани, выясняет, где Бог, где дьявол. Какая может быть этика, если тебя опаляет серным смрадом и языками огненными?! Этичен ли роман «Преступление и наказание»? А «Тарас Бульба» — там запорожцы режут, бьют, насилуют? Это экстремистский роман, прославляющий терроризм. А вспомните строки Пушкина: «Кишкой последнего попа последнего царя удавим» или Маяковского: «отца… обольем керосином и в улицы пустим — для иллюминаций»! Этика в литературе — это не прямое высказывание, не моралите: так поступай, а так не поступай. Она работает с другими сущностями, позволяет увидеть мир во всей его полноте. Хороший литератор — как пожарник: он забегает в полымя и выбегает оттуда с нечеловеческим опытом. В этом опыте — и этика, и милосердие, и мораль.
А вы как автор пытаетесь что-то донести до читателя?
Я хочу донести до него максимально полную картину как можно более сложных человеческих эмоций. Чем глубже проникаешь в мотивацию и психологическую подоплеку чувств, тем большее удовлетворение испытываешь. Описывая что-то, поневоле разбираешься в этом сам.
Считаете ли вы, что писатель должен создавать произведения на основе собственного опыта?
Нет, конечно. Но есть один момент: чтобы обладать большими возможностями, нужно находиться внутри описываемой среды. Если пишешь о жизни полярников, летчиков или просто женщины и мужчины, надо обладать экстремальным — в переносном смысле слова — опытом. Нельзя в 18 лет стать большим писателем просто потому, что ты очень талантливый и много прочитал, — это всегда будет ворованный воздух, ты всегда будешь описывать ситуации, о которых узнал из книг.
Считаете ли вы, что в литературе есть запретные темы?
Табуированных тем для литературы не существует, описывать можно все: и дьявола, и смерть ребенка, и Холокост. Джонатан Литтелл взял тему истребления евреев, славян и цыган — и получился гениальный роман «Благоволительницы». Но есть табуированное отношение к некоторым темам — их нельзя использовать для забав, для того, чтобы отрабатывать свои фобии, нельзя делать из трагедии шоу. Это безответственно.
Как литература влияет на людей?
Весь мир создан текстом. То, что являет собою народ, — и есть сумма текстов, определяющих его психологию, модель поведения, стереотипы, отношение к государству. Люди, хоть и не осознают этого, всем этим пропитаны. Любой народ начинается с героического мифа — вокруг него вырастает нация. Необязательно хранить этот миф в голове — он часть нашей физиологии. Но, когда нация его забывает, она исчезает.
За тысячелетия культура обогащается, накапливает солидный багаж. Как это меняет человека?
Я не думаю, что человечество сильно меняется. Читая древнерусские летописи, я вижу, что у людей были такие же привычки, кодекс поведения, они так же общались, испытывали те же чувства, так же друг друга резали, отнимали сладкие куски и воровали друг у друга женщин. Так что представление современного человека о том, что он умнее и сложнее своих предков, мягко говоря, не соответствует действительности. Может, все наоборот. Человек, живший в культуре сельского хозяйства, скажем в Х веке, участвовал в ритуальных действиях: посев, сбор урожая, похороны, свадьбы — которые сопровождались песнями, плясками, причетами. Шли на покос — одна песня, с покоса — другая песня, хоронили — 10 причетов. Каждый нес в себе 200—300 текстов, был ходячей библиотекой. Люди были перенасыщены этим знанием, оно проходило через всю их жизнь. Тогда связь с землей, с родиной была физиологическая, землю собирали в ладанку, когда отправлялись на чужбину. А человек, прибившийся с чужбины, считался потерянным, его жалели. Сейчас этого чувства, конечно, нет — кажется, что весь мир наш. Но это не так, в мире мы в гостях. Если мы теряем свою идентичность, мы можем пойти в мир, а хотим ее сохранить — придется оставаться здесь.
То есть свою идентичность можно сохранить только на родине?
Да, особенно это справедливо для русских. Мы, в отличие от, скажем, евреев, не можем столетиями сохранять свой язык. Мы очень восприимчивые.
Потеряв язык, человек теряет связь со своей культурой?
Человек, может, и не теряет: он повесит на стену балалайку, портрет Есенина — и нормально. А народ теряет, конечно, — он распыляется.
Как, по-вашему, можно восстановить эту физиологическую связь с родиной?
Государство должно жить в пространстве своей позитивной мифологии. Оно должно прививать ребенку, подростку, взрослому кодекс уважения к своей земле, к своей территории, географии. Основной пласт знаний, которые мы получаем, должен давать нам ощущение не свободы, а долга. Идеология свободы — освобожденности от всяческих оков — не кажется мне универсальной и столь уж необходимой. Человек должен чувствовать себя не венцом творения, а созданием с определенными обязательствами: перед прошлым, перед родителями, перед детьми, перед своей женщиной или своим мужчиной. А у нас все с ног на голову: мы же «право имеем». Но, помимо права, есть долг, и он не менее, а, может, и более важен. Те, кто существовал здесь до нас, принесли нам реки, земли, моря, вспахали тут все, взрастили, умерли за эту землю, жизнь нам подарили. Значит, они испытывали чувство долга. И мы должны жить так, чтобы эта земля, и люди, и тени, которые смотрят нам вослед, не усомнились в нас, не подумали, что мы плюнули на их могилы и пошли своим путем, чтобы у нас не было чувства, что мы предали здесь что-то.
Нужно ли, по-вашему, переосмысливать свою историю?
История и так бесконечно переосмысливается. Потому что у нас оптика меняется: «большое видится на расстоянии». Мы отходим на три шага — и все уже иначе. Мы сами меняемся, и мир вокруг нас меняется. Нельзя жить все время по одним и тем же установкам, тем более идеологическим — они все очень смешные.
Какие темы важно переосмыслить именно сегодня?
Совершенно очевидная тема — европоцентризм. Важно понять, что нет никакой единой европейской цивилизации. Мир ценен тем, что люди, народы, нации, страны друг от друга отличаются, — именно поэтому они создают свою культуру, именно поэтому мы живем в таком удивительно богатом мире с разной музыкой, литературой, традициями. Почему все должны быть одинаковыми, скроенными по одним лекалам? Почему одни самобытные цивилизации должны равняться на другие?
Какие особенности у нашей культуры, литературы? Например, вы как-то сказали, что она задает вопросы, которые другие задать не решаются.
Свобода, как правило, находится в сфере культуры. А нынешняя российская культура во всех ее проявлениях — одна из самых свободных. Писатели позволяют себе брать любые темы и прекрасно с ними справляются. А в Европе, например, колоссальное количество табуированных тем, которые никто никогда обсуждать не будет, о которых не принято говорить. Когда я в Германии перечисляю любимых немецких писателей, мне говорят: Юнгера не называй: все знают, что он был связан с нацистами. Но Юнгер — это же титан, философ, крупнейший писатель! Не могу себе представить, чтобы я кому-нибудь посоветовал не называть какого-нибудь русского писателя, потому что он плохой. Еще один пример. У француза Эмманюэля Каррера вышла книжка о Эдуарде Лимонове — безумным тиражом, ее перевели на 20 языков, 400—500 тысяч экземпляров продается в каждой стране. При этом самого Лимонова нигде не переиздают после его участия в Сербской войне: считают его фашистом. А в России можно любого писателя, enfant terrible любой страны издавать — мы всех приютим, хоть фашиста, хоть сиониста, мы всем рады, всех будем читать и во всех можем влюбиться, если они нам понравятся. Или, например, французы устроили резню в Алжире, настоящий геноцид — и у них об этом нет ни одного фильма, ни одной книги. А у нас про Афган — есть.
Важно понимать, что великая культура, которую Россия дала миру, порождена нашей историей, тоталитарным наследием, рабством в кавычках или без. Если бы этого всего не было, не было бы ни Чайковского, ни Достоевского, ни Пушкина. Нельзя отделять культуру от ее корней.
Считаете ли вы, что сегодня, когда все раздроблено, люди могут договориться между собой? Способны ли мы вообще разговаривать друг с другом, вести диалог?
Не способны. Одна из иллюзий новейшего либерального мира — что мы выросли и должны быть готовы к диалогу больше, чем в эпоху Реформации, религиозных войн, Варфоломеевской ночи. Нынешняя убежденность людей в своей правоте — абсолютно религиозная, она не подвергается рациональному анализу, ее невозможно оспорить, потому что это символ веры. Идея пресловутой свободы должна была, вроде бы, научить нас веротерпимости и человекопониманию. На самом деле она зачастую учит противоположным вещам. Человек, у которого есть какие-то ограничения, который живет «в своем монастыре», больше склонен принимать правду и кодексы поведения других людей. А те, у кого нет своего устава, не воспринимают никого, кроме самого себя. Только понимание долга, обязательств позволят четко структурировать отношения между людьми, народами.