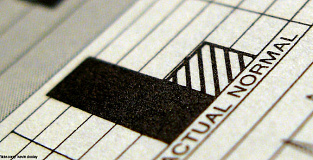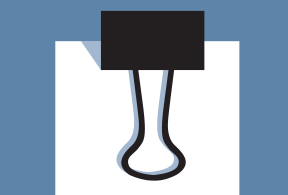Капитализм — в том виде, в каком он существует сейчас в развитых странах, — довел до абсурда две блестящие идеи. Первая — это рентабельность акционерного капитала, один из способов оценки созданной полезной стоимости, который затмил многие другие, причем более общего характера. Вторая — конкуренция, победа в которой из стимула роста и новаторской мысли превратилась в самоцель. Обе идеи появились в свое время как ответ на насущный вопрос: каким образом распределять ресурсы, чтобы соблюсти принцип, сформулированный Иеремией Бентамом: создавать «наибольшее благо для наибольшего числа индивидуумов». И передовые экономические страны не отступали от этих идей ни на шаг — да только вот изменился сам вопрос. Это вызвало столь серьезные проблемы, что многие заговорили о крахе капитализма.
Приговор был вынесен всей системе, причем не только из-за финансового кризиса; в последние годы ее объявили несостоятельной по самой своей сути. Это не так. Капитализм — в смысле частной собственности и рыночного распределения ресурсов — остается самой мощной, гибкой и жизнестойкой системой, способствующей процветанию общества и повышению качества жизни. Но сможем ли мы поддерживать его на плаву?
Это зависит от того, удастся ли нам пересмотреть приоритеты, которыми в этой системе руководствуются все — от предпринимателей до регулирующих органов и инвесторов. И все, кого она охватывает, должны вместе притормозить, прекратить бешеную гонку за рентабельностью акционерного капитала и снизить накал конкурентной борьбы. Но ничего не изменится, пока мы не поймем, что собой представляют эти идеи на самом деле. Они — сбой «в программе», отклонение от нормы.
Эффект павлина
Идея отбора, вышедшего из-под контроля, появилась в эволюционной биологии. Объясняя ее, биологи чаще всего приводят в пример павлиний хвост. Век от века он становился все краше, что объясняется очень просто: самки павлина предпочитали длиннохвостых самцов. Это имело смысл, когда вид только появился. Эффектный хвост свидетельствовал о том, что его обладатель здоров и способен прокормить себя и свое потомство (что-то вроде «феррари», во всяком случае до того, как надо выплачивать кредит). Поэтому у самцов, в полной мере обладавших этим декоративным — и желанным — признаком, было больше шансов оставить потомство и передать его по наследству. У следующего поколения хвосты были в среднем длиннее. Сначала так выбраковывались слабые особи, но через много поколений возникла проблема и у сильных.
Длинный хвост дорого обходится (как и «феррари»). Чтобы он был в форме, нужно хорошо питаться. Кроме того, он тяжелый, и самый красивый самец оказывается менее проворным (ладно, на этот раз с «феррари» сравнивать не будем), что превращает его в легкую добычу. С какого-то момента популяция павлинов стала уменьшаться, хотя хвосты удлинялись. Экономист из Корнелльского университета Роберт Фрэнк пишет в книге «The Darwin Economy», что по той же причине вымерли благородные олени с самыми ветвистыми рогами. Они цеплялись в лесу за ветки, и, как выражаются дарвинисты, вид погиб в результате «биологического самоубийства». Та же участь постигла бы и павлинов, если бы не вмешательство человека, очарованного их красотой. Вы можете спросить, почему же сбой не произошел в эволюции других видов. Почему жирафья шея не вытянулась до облаков? Или кроличьи уши не достигли метровой длины? То, что случилось с павлинами, называется отклонением от нормы. Два процесса — естественного отбора (когда природа выявляет критерий, делающий особь приспособленной к жизни и годной для размножения) и полового отбора (при котором противоположный пол по тому или иному критерию оценивает привлекательность партнера) — очевидно расстыковались. У видов, которые тысячелетиями остаются жизнеспособными, эти два типа отбора идут рука об руку, как и полагается. Любое рассогласование рано или поздно приводит к вымиранию вида.
А теперь подумаем: сколько может быть сбоев в таких общественных системах, как бизнес. Мы, люди, безусловно, слишком часто потакаем решениям, не способствующим крепкому здоровью наших предприятий. Об этой странной способности знает любой руководитель, который составлял программу материального поощрения: бонусы часто достаются тем, чьи дела противоречат официальной миссии организации и ее ценностям. (Стивен Керр прекрасно обрисовал эту проблему в своей знаменитой статье «On the Folly of Rewarding A, While Hoping for B».) Когда большие бонусы лишь повышают статус их получателей, но не свидетельствуют об успехе всего предприятия и не укрепляют у остальных ощущения причастности к этому успеху, проблема усугубляется.
И чем сильнее «раскручивают» друг друга причина и следствие, тем труднее изменить ситуацию. Чаще всего и в природе, и в общественных системах нестыковки хорошо заметны и существуют недолго. Но когда надежный показатель жизнестойкости системы по мере изменения обстоятельств постепенно устаревает и уходит «со сцены», появляются более коварные проблемы. И никто не объяснит этого павам, место которых в иерархии стаи зависит от длины хвоста их избранников. Идея критерия, который устаревает и даже становится опасным, плавно подводит нас к понятию «рентабельность акционерного капитала».
Равнение на рентабельность акционерного капитала
Самый главный вопрос в американских корпорациях: какая у нас рентабельность акционерного капитала? Вопроса важнее нет. Затраты на социальные сети? Профилактическое медицинское обследование? Лучшие условия труда? Отказ от взяток иностранным чиновникам? Все это вряд ли повысит рентабельность акционерного капитала. Цель оправдывает средства, а раз так, то нечего спрашивать, зачем кто-то делает сигареты.
Как получилось, что этот показатель стал поначалу определять инвестиционные решения, потом бизнес в целом, а теперь — и политическую культуру? Дело в том, что сто лет назад важно было выжать из акционерного капитала всю прибыль до капли. По мере развития Промышленной революции массовое производство давало обществу все больше благ: предметы роскоши мог себе позволить и средний класс. Массовое производство преобразовывало отрасль за отраслью — позже бизнес изменила электронная коммерция. Но заводы, в отличие от сайтов, — дело капиталоемкое. «Топливом» для революции служил акционерный капитал, а его не хватало.
И любой менеджер, который бы рассудил, что размещать ресурсы надо так, чтобы обеспечить ожидаемую рентабельность акционерного капитала, был бы прав. Мы не говорим, что этот показатель стал главным для бизнеса, — тогда, как и теперь, главной целью считалось повышение благосостояния людей. А возможностей, чтобы поставить капитал на службу этой цели, было предостаточно. Инвесторам, которые выступали в роли пав и решали, какому предприятию доживать до следующего поколения, требовался критерий, который позволял бы быстро находить надежных партнеров для создания финансового союза, и рентабельность акционерного капитала тут пришлась кстати.
Так было положено начало тому порочному кругу, который по сей день заставляет менеджеров лезть из кожи вон ради квартальной прибыли — и спокойствия инвесторов. В 1917 году эта безумная гонка перешла на новый уровень. У General Motors тогда началась полоса финансовых проблем, и главенствующую позицию в компании заняла DuPont (GM была важным каналом сбыта ее продукции, в том числе лака и искусственной кожи, а Пьер Дюпон вошел в совет директоров). DuPont, чтобы разобраться в ситуации, направила в Детройт Дональдсона Брауна, в прошлом — инженера, в настоящем — финансиста (он стал вице-президентом GM по финансам).
И Браун разобрался. Он обратил внимание на такую простую вещь: рентабельность акционерного капитала можно представить как доход от продаж, помноженный на отношение продаж к активам и на отношение активов к собственному капиталу. Эту формулу назвали уравнением Дюпона и вскоре стали изучать в бизнес-школах. Выделив в ней три сомножителя, которые позволяют определить, за счет каких факторов изменяется рентабельность, он заложил финансовую основу для деления организаций по функциональному признаку на три структуры, перед каждой из которых ставили свои цели. Браун рассудил, что если маркетологов нацелить на максимизацию рентабельности продаж, руководителей производства поощрять за максимизацию объема продаж, а финансовый отдел сосредоточится на минимизации необходимого акционерного капитала, то рентабельность акционерного капитала будет обеспечена сама собой. Так Браун создал предпосылки для сегодняшней всем ненавистной разобщенности трех функциональных направлений. Материальные стимулы толкали менеджеров на все более опасный путь. Маркетологи в погоне за прибылью грезили о монополии, а Конгресс ужесточал антимонопольные законы.
Руководители производства видели в заводах личную вотчину, а в рабочих — рабов, вынуждая профсоюзы сплачиваться и добиваться нового трудового законодательства. Финансовые отделы с одобрения своих банков увеличивали долю заемных средств по отношению к собственному капиталу — до тех пор, пока не были приняты требования к достаточности капитала… стоп, это вычеркнем: пока не разразился финансовый кризис, породивший Великую депрессию. Потом началась эпоха регулирования банковской деятельности. (Явно не усмотрев в этом причинной связи, мы в 1980-х повторили эксперимент. И результат опять едва не привел к катастрофе.) В каждом случае программа выдавала неправильный результат. Менеджеров премировали в соответствии с одним главным показателем. И поскольку он был так четко сформулирован, поскольку его было так просто объективно измерить и применить в управлении, поскольку выполнение плана по нему гарантированно вознаграждалось, образовался порочный круг, разорвать который было невозможно.
Если перейти на язык эволюционной биологии, то естественный отбор не совпадал с половым; общество — среда обитания бизнеса — считало показатели непригодными и настаивало на том, чтобы фирмы распределяли капитал, руководствуясь более общими критериями. Однако бизнес зациклился на выделенных Брауном элементах рентабельности акционерного капитала, и программа продолжала давать сбой. В период Великой депрессии проблема извлечения прибыли из оскудевшего акционерного капитала обострилась до предела. Жизненно необходимыми стали точные, объективные показатели эффективности, которые помогли бы подстегнуть рост — даже если дело было совсем не в них. В 1930-х никто не понимал причин, вызвавших депрессию, что не удивительно. Удивительно другое — то, что не было системы экономической оценки, которая бы объяснила, что и как. И по заданию Министерства торговли США Саймон Кузнец из Национального бюро экономических исследований предложил Сенату свою систему — Счета национального дохода и продукта, содержащие данные об основных макроэкономических переменных, таких как валовой национальный продукт, потребление и инвестиции.
Его рекомендации привели к созданию административного аппарата, который рассчитывает такой общий показатель, как ВВП. Вот уже 70 лет по методике Кузнеца оценивается благосостояние всех стран мира. Уинстон Черчилль заметил как-то: «Сначала мы создаем свои дома, а потом они создают нас». То же самое можно сказать о показателях эффективности. И ВВП, и ВВП на душу населения придают чрезмерное политически окрашенное значение, а другие показатели остаются почти без внимания. Лишь недавно стали составлять рейтинги стран по уровню преступности, образования и здоровья граждан, их удовлетворенности жизнью, или счастья, хотя от этих рейтингов ничьи бонусы не зависят. Но даже в государствах, которые в индексах, отслеживающих нефинансовые показатели стран мира, никогда не попадают в первую десятку, решения по-прежнему принимают, руководствуясь тем, как они отразятся на ВВП. Если перейти на уровень предприятий, то тут финансовые показатели формируют мировоззрение и определяют планы действий еще больше.
С 1980-х — а это десятилетие прошло под флагом дерегулирования и анализа экономической эффективности — для стран Большой семерки рентабельность акционерного капитала стала почти единственным мерилом успеха. Но в мире вот-вот начнут отказываться от этой системы оценки. Во-первых, формируется новая инфраструктура сбора и анализа данных, что во многом связано с развитием технологий. Во-вторых, людей все больше интересуют показатели нефинансового рода. В 1972 году король Бутана объявил, что «счастье народа важнее процентов валового внутреннего продукта», а потому «в процессе развития страны счастье должно превосходить по значимости экономическое процветание». На мировой арене идею Валового национального счастья встретили холодно. Эксперты возражали, что счастье слишком субъективно, слишком эфемерно, чтобы служить основой для управления экономикой страны. Бутан это не остановило.
Поскольку там не было своего Национального бюро экономических исследований, правительство организовало Центр изучения Бутана и поручило ему разработать своего рода Счет национального счастья. Получилась система, которая учитывала девять факторов. Уровень жизни был только одним из них, наряду с образованием, здоровьем, качеством работы государства — и психологическим благополучием, которое особенно плохо поддается измерению. Инициативу Бутана подхватили. В 2008 году Николя Саркози создал комиссию во главе с двумя нобелевскими лауреатами. Ей поручили выявить компоненты счастья, которые должна измерять Франция. Сейчас проекты, связанные с оценкой счастья, выполняются в 41 стране, в том числе в Великобритании, бастионе капитализма «по-американски». НКО Legatum Institute, расположенная в Лондоне, провела эконометрические исследования, проанализировала «источники» счастья и разработала индекс на основе 89 параметров. Они разбиты на восемь групп, вроде выявиленных в Бутане. Если, по вашему мнению, все это очень похоже на воздушные замки, представьте себе, как трудно было разрабатывать Счета национального дохода и продукта, пользуясь информационными системами 1930-х годов.
Сейчас нам собирать данные о счастье куда проще, чем тогда Саймону Кузнецу: у нас есть Facebook* и множество других технологических новшеств. Вернемся к биологии. Отклонения не приживаются, если вызвавшие их факторы уравновешиваются другими критериями отбора. В природе такое случается иногда при резком изменении экосистемы. Если бы, скажем, в среду обитания павлинов попали барсуки-медоеды и переловили самых длиннохвостых, то у пав не осталось бы другого выбора, кроме действительно подходящих самцов. Самые роскошные хвосты пошли бы барсукам на завтрак. Общественным системам вроде капитализма не нужны столь серьезные потрясения, чтобы пресечь отклонение. У нас есть разум — чтобы уловить разницу между целью и средством и грамотно скорректировать курс. Если роль жертвы сбоя в программе нас не устраивает, мы можем отказаться от нее.
Мания конкуренции
От чего зависит жизнеспособность экономики? До какого-то момента она может развиваться за счет инвестирования сбережений в производство. Но главный источник жизнеспособности — инновация. А что подстегивает инновацию? Если вы думаете, что правильный ответ «Конкуренция», то — внимание! — вы потворствуете второму опасному отклонению капитализма. Конечно, конкуренция может подтолкнуть инновации. Кто не знает о битве Apple и Android! И потребителей действительно волнует, на чьей стороне теперь перевес.
Правда и то, что отсутствие конкуренции плохо для инноваций: Verizon и AT&T, захватившие рынок, потребителям не интересны. Значит, степень конкуренции вполне годится в качестве показателя инновационности экономики и ее можно рассматривать как предпосылку для создания стоимости. И опять-таки, на заре капитализма конкуренция была более надежным показателем, чем сейчас. В мире Адама Смита «атомистическая конкуренция» (ситуация, когда покупатели и продавцы на рынке столь многочисленны, что предположение о совершенной конкуренции соответствует действительности), если выражаться языком экономики, обеспечивала устойчивый прирост товаров, которые потребители могли получить за свои деньги.
Цену диктовал рынок, на весь объем которого не хватало производителей, а не конкуренты. Технологии изменялись медленно, капитал был в дефиците, поэтому для роста важнее были не инновации, а грамотное распределение ресурсов, которое позволило бы снижать цены. Это была эпоха мелкого бизнеса: конюх и кузнец были отдельными «предприятиями», и друг друга они, в отличие от GM и DuPont, держали на почтительном расстоянии.
Но эта эпоха закончилась, когда, как отметил Альфред Чандлер в «The Visible Hand», благодаря индустриализации компании начали расширяться до небывалых прежде масштабов. Определять цены стали производители, которые смогли получать больше, выпуская меньше. Когда их могущество достигло апогея, общество взбунтовалось, закон сказал свое слово и концерны распались. Им на смену пришли новоиспеченные конкуренты, но стимулы остались прежними, и соперники научились подавать друг другу знаки и сговариваться, как создавать и делить олигополистические рынки на двоих или троих. Во многих отраслях появились столь сильные игроки, что они оказывают влияние не только на рынки, но и на политику. В нынешних США пропаганда свободного (в смысле — неконтролируемого) рынка порождает занятный эффект: компании, уже владеющие большой долей рынка, укрепляют позиции. Замечу, что на самом деле никому не нужна вечная борьба с конкурентами. Каждой отдельной компании хочется получить так называемое устойчивое преимущество — то, благодаря чему она могла бы защищаться от натиска конкурентов, зарабатывать достаточную прибыль, обновлять ассортимент, когда ей это удобно, брать к себе выпускников лучших вузов и получать всякий другой навар. Все это означает, что возвышение основных игроков не делает экономику более конкурентной.
Вместо этого начинается псевдоконкуренция. Посмотрите на сектор мобильной связи, самый инновационный, если не считать Verizon и AT&T. В 2009 году Verizon потратила на рекламу $3,7, AT&T — $3,1 млрд. Что такого особенного они сказали вам, потратив эту уйму денег? Не спешите, подумайте. Каждая компания, ссылаясь на данные, которые надо было еще расшифровать, вооружившись лупой, уверяла, что она лучше, быстрее, дешевле другой. Между тем в рекламных бюджетах просматривалась закономерность. Ничего удивительного. Эти цифры так же похожи, как и доходы двух операторов связи: и той, и другой каждый подписчик приносит $35 в год. А в Индии ряды лидера отрасли Bharti Airtel ежегодно пополняются десятками миллионов абонентов, и каждый платит меньше $15 за обслуживание (менее, впрочем, надежное). Как это понимать? Надо не кричать о тайном сговоре корпораций, а признать, что в нашей зацикленной на конкуренции бизнес-культуре защитить олигополию от новых игроков можно одним способом — деньгами. Для инноваций это плохо. Когда в конкуренции видят залог жизнеспособности, то и появляются решения, ослабляющие эту самую жизнеспособность — все по классическому сценарию отклонения.
Сейчас, когда то в одной, то в другой отрасли формируется олигополия, идея конкуренции теряет смысл. К тому же, она мешает разглядеть — а значит, развивать и поддерживать — не менее перспективный в нашем по-новому объединенном мире источник инноваций — сотрудничество. Поразительный пример перехода от конкуренции к сотрудничеству — история Kinect. Этот контроллер для игровой приставки Xbox 360 разработали в Microsoft на основе новой 3D-сенсорной технологии. Игроку не нужно держать в руке контроллер: Kinect реагирует на любое движение и понимает устные команды. Технология — полезная для фанатов робототехники, да и для многих других любителей мастерить своими руками, тем более по цене обычной игры.
Проблема в том, что она встроена в патентованный продукт. На следующий день после начала продаж Adafruit Industries компания — поставщик «свободного железа», которую возглавляет обаятельная хакерша Лаймор Фрайд, объявила, что заплатит $1000 любому, кто взломает Kinect и выложит программу в интернете. Первая реакция Microsoft выдала ее привычку к конкуренции: корпорация пригрозила, что нелегальное использование ее ПО будет иметь юридические последствия. Тогда Фрайд удвоила награду. Через 48 часов код уже был в Сети и изобретатели всего мира начали выдавать потрясающие способы применения сенсоров Kinect — от чтения рентгенограмм до составления карт пещер. К чести Microsoft она сменила гнев на милость, понимая, что таким образом принесет пользу не только обществу, но и себе самой. Судя по последним новостям, японцы использовали технологию Kinect при создании роботов-собак, предназначенных быть поводырями для слепых.
Профилактика отклонений
Стоит лишь сместить акценты, и капитализм сможет эволюционировать, найти себе новые ориентиры, совпадающие с основными целями общества, и тем самым положить конец досадному отклонению от эволюционного пути. Он может адаптироваться к новым условиям и процветать дальше. Представьте себе, что люди прозрели и поняли: конкуренция, которую они считали сутью капитализма, — совсем не главное. Представьте себе, что это «свято» место занимают инновации и проекты вроде Wikipedia и Linux, которые перестают казаться чем-то странным, а конкуренция, еще правящая бал, но уже не с прежней истовостью, признает плюсы сотрудничества.
Или допустите на минуту мысль, что стремление к финансовой выгоде — вовсе не душа капитализма, а его миссия — создание «наибольшего блага для наибольшего числа индивидуумов». Идея рентабельности остается, но на первый план выходит другое. Такой переворот в мозгах не произойдет легко. Как объяснил нам Клейтон Кристенсен в работах о «подрывных» инновациях, изменить привычное мышление компании-старожила почти невозможно, даже если к этому ее подталкивает жизнь. А теперь увеличим масштаб проблемы до экономики в целом или даже до самой культуры капитализма в Большой семерке. К счастью, именно так глобально мыслит экономист Пол Ромер.
Согласно его теории экономика изменяется по двум — и только двум — причинам. Во-первых, из-за появления новых технологий, которые иначе определяют взаимозависимость ресурсов и результатов, требуют новых навыков и смещают центры экономической мощи. Экономика Индонезии пережила сильнейшее потрясение, когда технология заморозки продуктов перечеркнула роль специй как консерванта и когда изобрели синтетическую резину для шин.
Вторая причина — изменение правил. Ромер объясняет это на примере должников: когда-то их сажали в тюрьму, теперь их долги реструктурируют в судах. Это шло вразрез с привычками общества карать за проступки, но выиграли все: теперь, если речь идет о необратимых затратах, поощряется движение вперед — как можно более продуктивное. Раньше расход общественных ресурсов только возрастал (на заключение должников под стражу), а возможность возвращения денег пресекалась. Ромер и Кристенсен показывают, что люди следуют правилам, в которых воспитаны, и советуют взращивать новое с нуля на неосвоенных площадках. Кристенсен имеет в виду выделение новаторских групп в компании, Ромер — опыты с «чартерными» городами, когда выбирается свободная территория и на ней формируется новое сообщество, которое живет по самым передовым правилам, поддержанным законом.
Соучредитель PayPal Питер Тиел руководствовался примерно такими же идеями, основывая Институт освоения моря, который будет создавать плавающие острова-государства с особыми социально-политическими и правовыми системами. Независимо друг от друга эти люди пришли к мысли, что нужно разумно подходить к преобразованию больших систем. Но мы хотели бы обратить внимание читателя на другие «пространства» — не искусственные, но столь же мало освоенные: развивающиеся страны.
Изменяющаяся среда капитализма
Мы вовсе не хотим сказать, конечно же, что развивающиеся страны — это громадные пустые пространства. Мы имели в виду другое: при прогнозируемых темпах роста этих стран там хватит почвы для укоренения новых правил, более подходящих для экономики эпохи информации. Более того, эти страны так усилятся, что смогут оказывать влияние на весь остальной мир. Речь идет о странах БРИК и о выделенной Goldman Sachs группе «одиннадцати следующих». За 2004—2009 годы экономический рост этих стран составил 22%, государств Большой семерки — 1%. В 2000 году более трех четвертей мирового ВВП приходилось на долю богатых стран, но, по оценкам, к 2050-му их доля снизится до 32%. В то же время разные страны мира уже почти сравнялись по уровню развития связи. Казалось бы, 85 сотовых телефонов на сто человек — показатель Большой семерки. Но нет — развивающихся стран (в государствах Большой семерки — 109).
То есть в развивающихся странах есть доступ к информации и все возможности для ее использования. Наконец, предполагается, что до 2050 года численность населения Земли приблизится к 3 млрд, но доля богатых стран составит только 90 млн. По какой модели будут жить развивающиеся страны? Десять лет назад никто не сомневался, что согласно макроэкономической политике, предусмотренной Вашингтонским консенсусом (сформулирована в конце 1980-х МВФ и Всемирным банком для стран Латинской Америки), с ее упором на свободные, «эффективные» финансовые рынки, поддержанные МВФ и другими западными институтами. Эта идея уже отжила свое. Что появится взамен, зависит теперь от самих этих стран. Но кое-что понятно уже сейчас.
Переориентация экономики с промышленной на аграрную вызвала к жизни новые правила (организации труда, бухгалтерского учета и т.д.) прежде всего потому, что массовое производство требовало крупных инвестиций в заводы. Именно тогда в бизнесе стали приживаться нововведения: ночные смены, калькуляция себестоимости по нормативным издержкам, дисперсионный анализ и составление сметы. У информационной экономики свои отличия, поскольку дефицит информации — не то же самое, что дефицит товаров.
Информационные активы экономисты называют неконкурентными, потому что они, в отличие, скажем, от пары ботинок, могут принадлежать сразу многим. В рыночной экономике цены на дефицитные активы устанавливаются, по крайней мере негласно, на аукционе среди конкурентов. Когда в Wikipedia появляется новая запись, это означает, что Wikipedia стало «больше для всех». Это и есть то различие, из-за которого потребитель эры информационной экономики протестует против правил экономики промышленной: она держится за закон об интеллектуальной собственности, хотя проку от него — как от долговой тюрьмы. Стало быть, капитализм будет преодолевать свои отклонения. Капиталисты всегда учуют деньги, в этом можно не сомневаться. Откуда бы они ни были родом, они окажутся со своим бизнесом в развивающихся странах, которые будут вносить наибольший вклад в рост мировой экономики. Поскольку эти страны развиваются быстро, им будет легче выстроить современную инфраструктуру; поскольку они моложе, они раньше западных обществ освоятся в цифровом пространстве. Они откроют экономические правила эпохи информации.
И им не будут мешать установки, которые на Западе принимают как данность, в том числе и те два, которые вызвали сбой в эволюции. Они первыми полностью перейдут на новые технологии, и именно они сформулируют правила их использования. И поскольку влияние этих стран будет огромным, эти правила примут во всем мире. Значение развивающихся стран для капитализма не в том, что они служат глобальным компаниям источником дешевой рабочей силы, и не в том, что они представляют собой рынки, на которых эти компании могут зарабатывать. Их значение в том, что они покажут, какой должна быть экономика в эпоху информационных технологий. Коль скоро торговля все чаще ведется на новых территориях и новыми руками, появятся и новые принципы оценки новых успехов и освоения их уроков. Те, кто верит, что капитализм может адаптироваться, что он не должен пасть жертвой калечащих его отклонений, будут постоянно искать новые признаки приспособляемости к окружающей среде и вместе пользоваться новыми правилами. Нам вполне по силам сообща направить капитализм по новому курсу. Мы же не павы, в конце-то концов.
GE учится смотреть дальше
GE — компания, известная своей системой управления и виртуозно умеющая играть по правилам капитализма. Поставив перед собой цель максимизировать рентабельность акционерного капитала, GE справилась с этой задачей лучше всех остальных. Но, побеседовав недавно с сотрудниками GE, которые работают на крупнейших растущих рынках компании, мы убедились, что сейчас GE не только обновляет сценарии конкурентной борьбы, ведущейся по старым правилам, но и формулирует новые правила.
Больше товаров по разным ценам. Десять лет назад считалось идиотизмом продавать одинаковые с точки зрения функциональности товары по разным ценам. Такое было бы простительно производителю товаров широкого потребления, если бы он, к примеру, решил вытеснить из магазинов остальную продукцию, заполнив их своими шампунями всевозможных видов. Но в производстве промышленного оборудования это едва ли способствовало повышению рентабельности акционерного капитала. Скорее, такая стратегия вела бы к «убийству» ее прежнего продукта и замену аналогичным, но более дешевым. Тем не менее именно так GE действует в отношении своего нового электрокардиографа MACi (это специально созданная для индийского рынка версия ее известного аппарата MAC), поскольку в развивающихся странах вроде Индии и Китая мало кому из провайдеров медицинских услуг по карману прибор за $5 тысяч, а именно по такой цене GE продает его крупным клиникам в развитых государствах. Чтобы электрокардиограф покупали в развивающихся странах, он должен стоить в десять раз меньше. И нужно смириться с тем, что в нашем плоском, по выражению Томаса Фридмана, мире дешевый товар обгонит по продажам дорогую модель и в развитых странах. (И правда, директор GE по маркетингу Бет Комсток говорит, что около 40% доходов от продажи MACi приходится на Европу.)
Инновация в стране для страны. В прежней GE никто бы никогда и мысли не допустил, что самые удачные идеи новых товаров могут появиться и реализоваться на рынках, где она вела бизнес, — мало искушенных в подобного рода вещах. Глава GE Джеффри Иммельт, отказавшись от такого взгляда, учредил корпоративный фонд в поддержку инноваций, созданных «в стране для страны». Те самые индийские инженеры — разработчики MACi раньше занимались доводкой товаров, спроектированных в США и предназначенных для продаж по всему миру; но MACi — их детище от начала до конца. Они хорошо представляли себе местный рынок и дальнейшую судьбу нового электрокардиографа. Его бы перевозили из одной сельской больницы в другую, скорее всего, на скутере по пыльным ухабистым дорогам. Неизвестно еще, будет ли в больницах электричество. А учитывая, сколько могли бы платить за обследование пациенты, получалось, что врачи вряд ли стали бы покупать MACi больше чем за $500.
Изобретено не здесь. Чтобы разрабатывать оборудование для подобных условий, надо было отказаться от традиционного «Пути GE». Обычно каждую деталь новинки разрабатывали «дома». Но, экономя время и деньги, группа MACi переделала принтер, на котором в компании Indian Railways делали пассажирские билеты.
Почему мы так уверены, что новый принцип действительно приносит плоды? Освин Варги, один из разработчиков MACi, рассказал нам о том, как, по его мнению, воодушевились его коллеги, когда с доработки продукции для развитого рынка они переключились на создание версий, предназначенных именно для своей страны. «Люди вкладывали душу в работу, потому что мы берем лучшее из всего, что есть на развитом рынке, и делаем дешевый вариант для Индии и других развивающихся стран». В эпоху, когда рабочая сила чрезвычайно подвижна и люди хотят видеть смысл в своем труде, новая стратегия GE помогает ей находить лучшие кадры.