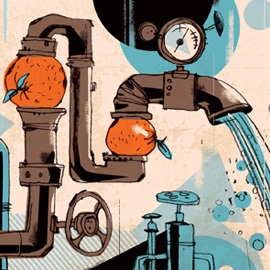Все люди в той или иной степени виртуозно умеют пользоваться одним или даже несколькими языками, но далеко не все понимают, что такое язык, каково его прошлое и будущее, как он связан с культурой и что вообще означает «изучать язык». Об этом старшему редактору HBR — Россия Анне Натитник рассказал профессор, член-корреспондент РАН, заведующий отделом типологии и ареальной лингвистики Института языкознания РАН и отделом корпусной лингвистики и поэтики Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Владимир Александрович Плунгян.
Вы занимаетесь теоретической лингвистикой. Что это такое?
Для многих изучение языка — это приобретение способности на нем говорить. И люди считают, что ученые делают то же самое. Стандартный вопрос лингвисту: на скольких языках вы говорите? Но на самом деле лингвисты не учат язык, а изучают его как объект — что это такое, как он устроен и т.д. Лингвистика не дает советы, как выучить сорок языков, и вряд ли может в этом помочь. Так же, как теоретическая физика вряд ли поможет вам починить холодильник.
Так что такое язык?
Это способность человека выражать свои мысли в материальной форме. Язык используется для общения, но сам по себе он не орудие общения, как часто говорят, а именно способность. Мы (наверное, к счастью) не умеем читать чужие мысли, но иногда хотим, чтобы другие люди знали, о чем мы думаем. И для этого существует специальный инструмент.
Как он возник?
Это одна из дискуссионных проблем современной лингвистики. В XIX веке на нее даже было наложено своеобразное табу: Парижское лингвистическое общество приняло решение не рассматривать работы о происхождении языка (и, кстати, о вечном двигателе). Считалось, что научным путем это установить нельзя. Не так давно ситуация изменилась — по крайней мере, проблему признали научной. Это связано с успехами генетики, палеоантропологии: сегодня мы лучше представляем себе происхождение человека, пути его миграции и т.д.
По крайней мере, мы можем примерно ответить на вопрос, где и когда возник язык: скорее всего, в Африке, одновременно с появлением разумного человека, 200 или 400 тысяч лет назад — ученые называют разные даты. В любом случае лингвистика так далеко заглянуть не может. Древнейшие письменные языки, которые нам известны, скажем древнеегипетский или шумерский, — это всего лишь IV—III тысячелетие до нашей эры. Мы можем реконструировать историю языков чуть глубже — но не больше, чем на 10—15 тысяч лет. Поэтому как выглядел язык древних людей, живших, допустим, 50 или 100 тысяч лет назад, мы сказать не можем и в ближайшее время вряд ли сможем.
В те времена у людей был один общий язык?
Мы этого не знаем. Сейчас большинство представителей научного сообщества склоняются к тому, что гипотеза моногенеза — то есть одного языка — чуть более вероятна, потому что она лучше согласуется с другими гипотезами. Если все человечество возникло в одной точке, то у него наверняка был общий язык. Но считать современные языки его потомками не совсем верно. Язык так сильно изменился, что от него уже ничего не осталось.
Как язык менялся на протяжении своей истории и каким образом пришел к современному состоянию?
Язык передается от родителей к детям по наследству. А это, как знают генетики, очень уязвимый механизм: тут случаются мутации, отклонения и т.д. Язык — не живой организм, но в чем-то он на него очень похож. Наши дети никогда не усваивают язык в том виде, в каком мы его передаем. Они всегда говорят не так, как мы, а наши внуки — не так, как наши дети; изменения накапливаются и язык становится другим. В бесписьменных обществах — а древние общества все были такими — этот процесс идет особенно быстро: за 100—150 лет язык может измениться до неузнаваемости. Менее значительно меняется он и за одно поколение.
Всю свою жизнь человек говорит более или менее на одном языке: в 70 лет он выражется примерно так же, как в 15. Часто он сохраняет жаргонные словечки из своей молодости, и они в конце концов входят в язык. Какие-нибудь «круто», «клево» могут стать респектабельными словами: люди взрослеют, и эти слова становятся для них вполне нейтральными.
Может ли общество сдерживать языковые изменения?
Все развитые общества — с языковой нормой, письменностью, культурой, со школьным обучением — пытаются это делать. Потому что изменения доставляют людям неудобства: родители должны понимать детей, ученым надо читать древние рукописи, должна сохраняться преемственность культуры и т.д. По-моему, у Артура Кларка был фантастический рассказ про человека, который прилетает на другую планету, чтобы завоевать ее. Для этого он должен выучить ее язык — и с помощью специальных приборов он осваивает его за ночь. Но на следующий день оказывается, что население планеты уже говорит на новом языке, — и так каждый день. Планы завоевателя терпят крах. Нам изменения языка тоже невыгодны, но остановить их мы не в силах. Это такая же неизбежность, как восход и заход солнца. Единственное, что может сделать общество, — притормозить эти изменения.
То есть жалобы, которые мы сегодня часто слышим, — на то, что язык портится, что многие говорят неправильно и т.д., — антинаучны?
С точки зрения науки они нелепы. Это все равно что говорить: осенью березы портятся, у них листья желтеют. Человек, который говорит «неправильно», поступает совершенно естественно. Говорить «правильно» — это как есть ножом и вилкой: неудобно, но в некоторых ситуациях необходимо. Это плата за вхождение в социум. Общество приучило человека к тому, что надо говорить «грамотно» — иначе тебя не будут уважать, сочтут некультурным, отсталым. Образованный индивид понимает, что какие-то языковые действия нехороши, они будут отрицательно оцениваться. С другой стороны, жалобы на «порчу» языка небесполезны: это еще один социальный механизм, который работает на торможение языковых изменений.
Как возникло языковое многообразие?
Раньше планета была не заселена, людей было мало, и большую часть своей истории они постоянно делились на группы и перемещались. Представьте себе: племя раскалывается на две части — одна остается, а другая через горы уходит очень далеко. А язык-то меняется, значит, в следующем поколении он будет по-разному развиваться в двух частях племени. По-научному это называется дивергенция, сопровождаемая утратой контакта. Вот эта постоянно происходившая утрата контакта — и есть основная причина. Сейчас существует около 7000 живых языков, а раньше было еще больше.
Могут ли в наше время возникнуть новые языки?
Едва ли, потому что сейчас нельзя разделиться. Мир стал очень маленьким — еще в XVI—XVII веках в результате Великих географических открытий была поделена вся Земля — и хотелось бы уйти, да некуда. К тому же почти везде есть радио, телевидение, интернет, книги, почта. Более того, сегодня мы часто наблюдаем конвергенцию, а не дивергенцию языков. Например, как отмечают специалисты, значительно замедлилось расхождение австралийского, канадского и других вариантов английского языка. Конечно, язык меняется внутри социума, но благодаря контролю за изменениями расщепления не происходит. Русский язык сам по себе меняется сильно, но меняется более или менее одинаково на всей своей гигантской территории.
Жители Владивостока и Калининграда смотрят одни и те же телепрограммы, читают одни и те же книги, учатся по одной школьной программе. И если страна сохранит единство, в ближайшем будущем расхождения языка не произойдет. Значительно меняется также русский язык жителей Казахстана, Латвии — и это объяснимо. Но чтобы можно было говорить о возникновении нового языка там, как минимум, должно пройти лет сто, а русскоязычное население должно быть достаточно многочисленным.
Почему языки умирают?
Есть две основные причины. Первая: может исчезнуть народ — носитель этого языка. Это, к счастью, происходит редко, хотя в истории такое бывало: малочисленные народы могли быть уничтожены в ходе войн. Вторая: люди сами не хотят говорить на своем языке и перестают им пользоваться. По каким-то причинам им удобнее говорить на другом языке. Это как раз частый случай. На большом отрезке своей истории люди жили в многоязычной среде и владели многими языками. Они с детства знали, что в их деревне один язык, на базаре — другой, в большом городе — третий, а чиновник говорит на четвертом. А если вас с детства окружает много языков, оказывается, что какой-то из них удобнее, лучше, престижнее, перспективнее.
Человек — ленивое существо, он всегда стремится сэкономить силы, поэтому легко отказывается от одного языка в пользу другого. То же происходит в современном мире. К сожалению, мы не можем гарантировать равные права носителям разных языков. Поэтому очень часто родители запрещают детям говорить на родном языке для их же блага. Так что многие прагматически настроенные люди скажут, что от исчезновения языков мир только выиграет: мы все станем богаче, успешнее, счастливее, если будем говорить по-английски, по-китайски, по-арабски.
Значит ли это, что в будущем у нас останется совсем мало языков?
Да, мир к этому идет. Если ничего радикального не произойдет, через 50—100 лет число языков уменьшится в разы, и в конце концов у нас останется 10—15 мировых языков. Пока я не вижу способов затормозить этот процесс.
Надо ли сохранять умирающие языки?
Мы, лингвисты, конечно, говорим, что исчезновение языков — настоящая катастрофа, что их надо сохранять. Потому что язык — это подарок природы, уникальный способ материализовать нашу психику, наш внутренний мир, это носитель культуры. С исчезновением языка мы лишаемся ценнейшей информации о человеке, теряем связь с историей, психологией, антропологией целого народа. Исчезают его легенды, предания, мифы, песни. Тексты, конечно, можно записать, но разве мы сможем их хорошо понять без носителя языка? Хорошо ли мы понимаем шумерские клинописные таблички? Поэтому исчезающие языки нужно срочно фиксировать.
Биологи же борются с исчезновением живых существ: они сумели убедить богатое западное общество, что вымирание землеройки в Судане — это трагедия. Но языки гораздо ценнее землероек, потому что это наше знание о самих себе. И если останется десять языков, мы станем гораздо беднее. Другое дело, что с этим богатством мы плохо умеем обращаться: плохо его описываем и оцениваем, потому что теоретическая лингвистика начала развиваться только в ХХ веке. Она быстро эволюционирует, но объект исследования исчезает еще быстрее — сокращается на глазах, как шагреневая кожа.
Как язык отражает картину мира человека?
Например, с помощью лексики. Известно, что некоторые слова невозможно перевести на другие языки — например, русское слово «уют». Или даже «счастье», «счастливый»: ведь английское «happy» — это не то же самое, оно часто переводится просто как «довольный». «Are you happy?» означает «довольны ли вы?» — то есть смысл более приземленный, простой. В некоторых контекстах эта фраза может означать и «счастливы ли вы?», потому что английский язык не проводит здесь границы между, так сказать, высоким и низким. А вот в ненецком языке есть глагол, который означает примерно следующее: лежать и ничего не делать, в то время как другой человек работает.
Мы очень хорошо можем представить себе эту картину. В русском есть слово «прохлаждаться» — тоже очень интересный и плохо переводимый глагол, который выражает близкое понятие. Но когда мы говорим «ты прохлаждаешься», мы не указываем, что именно ты делаешь, а в ненецком четко сказано: человек лежит. Но слова — это не все, есть еще грамматика. В русском, например, много безличных конструкций: «у меня не получилось», «мне не удалось». Как перевести на строгий, «ответственный» английский язык фразу «у меня не написалась статья»? Единственный вариант — «я не смог», но ведь это совсем другой коленкор!
Как возникают в языке такие грамматические категории?
Если людям, раньше говорившим на языке (грамматика — это проекция в прошлое), были настолько важны какие-то различия, что они все время их подчеркивали, эти различия закрепляются грамматически. В некоторых культурах закреплено, например, противопоставление мужчин и женщин — это мужской и женский род. Конечно, пол важен, но огромное количество культур без него обходится: скажем, в некоторых языках Африки 20 родов, но среди них нет мужского и женского, зато есть личный и неличный, различающий людей и не-людей. А в некоторых языках, например в дагестанских, есть грамматическая категория, различающая действия, которые вы наблюдаете своими глазами и те, о которых вам кто-то рассказал, — она называется заглазность. Скажем глагольная форма в предложении «У соседа дом сгорел» может иметь два разных окончания: одно — если я сам видел пожар, другое — если мне об этом кто-то сказал. В русском языке на эти различия указывает только лексика: мы можем сказать, например, «у соседа будто бы дом сгорел».
То есть это неуверенность?
Это часто коррелирует, например, в тех же языках Кавказа: там люди, так сказать, меньше доверяют тому, чего не видели сами. Но в языках Тибета, например, не совсем так. Там помимо обычной заглазной формы («будто бы») есть особая глагольная форма, выражающая общепринятое знание, — это тоже заглазность, но достоверная. Она используется, скажем, чтобы рассказать о рождении Будды. Это было в прошлом, современные люди не могли быть этому свидетелями, но они не скажут «Будда будто бы родился когда-то». А вот по-болгарски вам придется так сказать, иначе получится, что вы стояли рядом и наблюдали рождение Будды. В болгарском языке все исторические тексты написаны в перфекте (заглазная форма), кроме, как иногда говорят, учебника истории Коммунистической партии, — чтобы не создалось впечатления, будто кто-то сомневается в написанном. Даже если это анекдот, он показывает: возможности каждого языка ограничены, каждый язык что-то позволяет сказать, а что-то нет, в каждом языке есть «мертвые зоны» — то, что невозможно хорошо выразить.
Можно ли сказать, что бывают языки простые и сложные?
Долгое время этот вопрос считался ненаучным: каждый язык в чем-то проще, в чем-то сложнее других. За последние десять лет теоретическая лингвистика изменила свое мнение: сложности придали научный статус и стали ее измерять — как в математике, где сложной считается система, для описания которой требуется больше правил. Понятно, например, что язык с 15 склонениями сложнее, чем язык с тремя или одним склонением. Раз мы научились измерять сложность языка, хочется понять, от чего она зависит. Ответ очень неожиданный: чем меньше коллектив говорящих и чем меньше в нем чужих, тем сложнее язык. Таким образом язык косвенно свидетельствует об истории народа. Самые сложные языки у крошечных племен, которые ни с кем не контактируют.
Самые простые — языки империй, которые много столетий вбирали в себя другие народы и навязывали им свой язык. Это, например, китайский — в чем-то он сложный, а в чем-то очень простой. Или английский, который испытывал сильное влияние со стороны других языков: сначала как подчиненный, потом как завоеватель. Древнеанглийский язык был довольно сложным, но от его грамматики сегодня ничего не осталось. И теперь английский безусловно простой язык — это вполне научное утверждение. Отчасти это облегчает его экспансию. Через какое-то время, возможно, он станет еще проще.
Влияет ли язык международного общения на менталитет и культуру людей?
Соблазнительно ответить «да». Но это будет слишком поспешный и легкомысленный ответ. Скорее, дело в том, что народ-победитель навязывает свою культуру. Тем самым влияние есть, но от языка ли оно исходит? Говорить, что культура — прямое производное языка (как считал американский лингвист Бенджамин Уорф), ответственные лингвисты не стали бы. Поэтому, например, прямое отрицание русского языка как носителя русского менталитета (которое мы иногда наблюдаем на Украине) не имеет под собой основания. Но язык — это проводник культуры, он от нее неотделим, культура выражается в формах языка. И, возможно, язык может принять и другую культуру. Так что, в целом, как честный ученый я должен ответить на ваш вопрос «нет», а потом, помолчав, добавить: «А все-таки что-то в этом, наверное, есть…».
Вы замечаете это влияние?
Конечно. Каждый лингвист, особенно тот, кто имеет дело с разными языками, что-то такое чувствует. Я могу сослаться даже на опыт великого русского лингвиста Николая Сергеевича Трубецкого. В письмах Роману Якобсону он замечал, что для него с чешским языком ассоциируется другая культура, более близкая к немецкой, чем к русской, и он не может избавиться от ощущения, что эта культура связана с особенностями чешского языка. Но написать такое в научной работе он никогда бы не осмелился. Я его очень хорошо понимаю. Разве можно сказать, например, что отсутствие в русском суффиксального будущего несовершенного вида, которое есть в украинском, ответственно за все ментальные различия между нашими народами?! Но все же очень тонкая связь между языком и культурой, конечно, есть. К сожалению, сейчас очень много спекуляций на эту тему — о картине мира, о менталитете. Не хотелось бы, чтобы лингвистика, вслед за историей, становилась на службу сиюминутным интересам людей.
Как вы оцениваете перспективы создания искусственного языка?
Хотя все существующие языки несовершенны и могут выразить далеко не все, вряд ли искусственные языки могут с ними конкурировать. Но если уж заниматься их созданием, то надо быть во всеоружии. Чтобы клонировать живые организмы, нужно было как минимум расшифровать генетический код. Чтобы создать язык, который был бы не хуже, а может, и лучше всех существующих, нужно досконально знать, как устроены все языки человечества. Людвик Заменгоф, создатель эсперанто, знал всего четыре или пять европейских языков. Он взял от каждого кусочек и убрал все исключения, неправильные глаголы и т.п. Попытка, конечно, неплохая, но понятно, что эсперанто не может конкурировать ни с одним живым языком.
Каким образом ребенок, которого не учат родному языку, овладевает им?
Это невероятная загадка и одна из главных проблем теоретической лингвистики. Беспомощный ребенок, который ничего не умеет, вдруг примерно к четырем-пяти годам абсолютно полноценно овладевает речью — причем вне зависимости от степени сложности языка. Взрослому это не дано. Профессор испанской филологии, но не носитель языка, будет говорить с ошибками, которых никогда не сделает даже семилетний неграмотный паренек из какой-нибудь андалузской деревни. Так что тут все дело в некоем природном механизме, который есть у каждого психически нормального человека, — он включается в младенчестве, а потом отмирает.
В каком возрасте?
Примерно в 7—10 лет. Известно, что дети, с которыми до этого возраста в силу разных причин никто не разговаривал, потом не могут научиться языку и стать полноценными носителями. Но язык до 12 лет легко приходит и так же легко уходит. Если ребенок, с детства усвоивший язык, переселяется в другую страну и полностью погружается в новую среду, он может в совершенстве овладеть новым языком, но полностью забыть родной. В 14—16 лет этого уже, скорее всего, не произойдет. Поэтому язык, выученный до 12 лет, надо поддерживать. В целом же, погружение в новую языковую среду для детей не только безвредно, но даже полезно, это их развивает.
Находясь в двуязычной среде, может ли ребенок выучить оба языка? И будут ли эти языки влиять друг на друга?
Ребенок может выучить даже три-четыре языка. Конечно, они будут влиять друг на друга в его голове, но незначительно. А вот если этих детей будет много, то есть при массовом двуязычии, изменения будут существенными. Представьте себе, что все испанцы с детства говорят еще и по-немецки. Через несколько поколений испанский и немецкий станут похожи друг на друга. Потому что правила у языков сложные и нагрузка на говорящих — очень большая. Чтобы уменьшить ее, языки приобретают сходные черты. Плата за такое многоязычие — упрощение правил, частичная унификация языков.