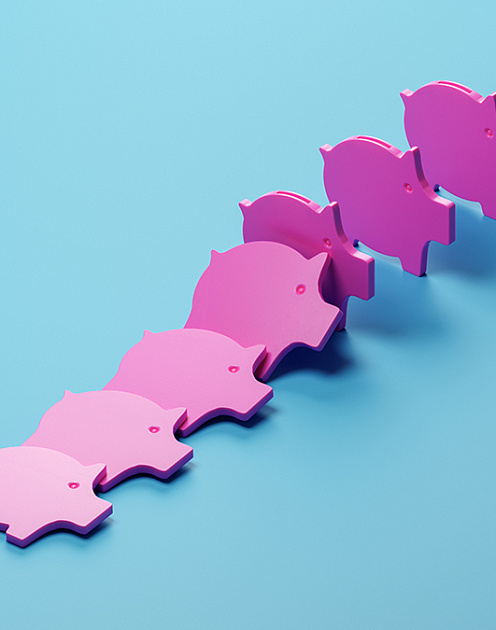Мольер написал своего «Тартюфа» в 1664 году, и для его постановки в Версале потребовалась 12 профессиональных актеров, режиссер и сцена. С тех пор пьесу разыгрывали бесчисленное множество раз, но процесс не сильно изменился. Сколь бы обученными ни были исполнители, быстрее они сыграть не смогут, да и обойтись меньшим количеством людей трудно. Как и двести лет назад, квартет Бетховена исполняют все те же четыре человека за те же 45 минут. А вот построить дом, посчитать выручку, переместиться из точки A в точку B можно гораздо быстрее и дешевле, чем во времена Бетховена. В «нормальной» экономике действуют рыночные отношения: предложение, встречаясь с платежеспособным спросом, рождает прибыль.
В искусстве этого не происходит, потому что издержки растут быстрее цен. В классической книге Вильяма Баумоля и Вильяма Боуэна «Исполнительское искусство — экономическая дилемма» описаны симптомы открытой авторами «болезни цен»: кассовая выручка не может покрыть издержек театральных и концертных площадок. Дефицит бюджета неминуем, и его приходится восполнять из внешних источников. Так уж сложилось, что главным спонсором театра и филармонии во многих странах стало государство. Когда в перестроечные времена приехавшие на Эдинбургский театральный фестиваль известные российские режиссеры провозгласили, что откажутся от государственного финансирования, они оказались главными еретиками своей гильдии.
Прогрессивный российский истеблишмент верил тогда во всесильную руку рынка и не читал книгу Баумоля и Боуэна. Увы, дальнейшая история российских театров показала, что правы были все-таки экономисты. Самоокупаемость искусства оказалась одним из мифов о могуществе рынка. Разумеется, в мире часто случаются прибыльные постановки. Но если говорить о репертуарном театре в целом, то продажа билетов компенсирует лишь долю расходов. Александр Рубинштейн, первый заместитель директора Института экономики РАН и заведующий кафедрой экономики искусства и культурной политики в школе-студии МХАТ, ссылаясь на данные исследований, говорит, что в Европе в среднем вклад кассовой выручки в общий бюджет драматического театра — 22—25%, а в России — 25%. Для оперных театров, постановки которых обходятся дороже, нормальным считается обеспечивать себя на 20%, но бывают и гораздо более высокие показатели, особенно если у театра нет своих мастерских и его убранство не отличается роскошью, требующей больших эксплуатационных издержек. Вот некоторые цифры: за счет кассовых сборов наш Большой театр окупает себя на 25%, театр Метрополитен в Нью-Йорке — на 32%, а Венская опера — на 50% (госдотация правительства Австрии составляет €56,4 млн). И в России, и в континентальной Европе основной источник средств для театров — государственные и муниципальные бюджеты, правительственные гранты и целевые программы.
В США театры и оркестры работают главным образом как НКО, их поддерживают частные спонсоры, федеральной поддержки практически нет. В Великобритании, классической стране театров, модель смешанная. Вот из чего складывается, например, более чем стомиллионный бюджет Лондонской королевской оперы (Ковент Гарден): госдотация 24%, касса 36%, благотворительная и спонсорская поддержка 19%, торговля сувенирами и гастрольные поездки 21%. У Метрополитен-оперы — огромный эндаумент (целевой капитал, собранный из многолетних пожертвований). Цена билета достигает $475, но далеко не все постановки собирают полный зал на 3800 мест. Многим кажется, что все дело в менеджменте: если люди умеют делать деньги, то они могут заработать и на искусстве, хотя бы на понятном массовому зрителю. Первое, что приходит в голову, — нью-йоркский Бродвей. Здесь сорок театров, и спектакли (в основном мюзиклы) идут каждый день. Но для инвестора, который финансирует бродвейские постановки, это чистый тотализатор: одно шоу выдержит десятки сезонов и принесет сотни процентов прибыли, другое снимут с проката через пару недель. Точной статистики нет (продюсеры не обязаны раскрывать финансовую информацию), но по разным источникам окупается то ли каждый третий, то ли каждый пятый спектакль. Доходы, если они вообще есть, распределяются так: после того, как постановка «отобьет» первоначальные затраты, инвесторы получают 50% прибыли (вторая половина — продюсеру). Совокупная выручка бродвейских театров превышает $1 млрд за сезон при средней цене билета $100). Расходы на постановку в среднем около $10 млн, операционные издержки — около $700 тысяч в неделю. «Бродвейские постановки в целом для инвесторов убыточны», — говорит Рубинштейн. Но, несмотря на это, поток желающих профинансировать спектакль никогда не иссякает. Более того, у каждого известного продюсера есть свой пул постоянных инвесторов: убедить их вложиться снова ему нетрудно.
Примерно та же бизнес-модель у постановок лондонского Вест-Энда. Здесь театры тоже коммерческие и не получают денег ни от государства, ни от благотворителей. Своих постановок у них нет: как и театры на Бродвее, они сдают помещения импресарио, которые приходят со своими спектаклями и играют их до тех пор, пока публика ходит. Поставить спектакль в Лондоне дешевле, чем на Бродвее, и многие начинающие продюсеры идут сюда. Нередко здесь они обретают своих бизнес-ангелов: те вносят в постановки всего по нескольку тысяч фунтов — по сути это краудфандинговые проекты. Люди готовы рисковать деньгами, потому что любое приобщение к искусству престижно. Для инвесторов есть и особые приманки: возможность поговорить за завтраком с актерами-звездами и сходить на репетицию еще до премьеры.
Как распределить
У большинства российских театров нет ни эндаументов, ни инвесторов, ни фандрайзинга в собственном смысле: круг их благотворителей и попечителей очень узок. Практически весь свой дефицит они покрывают за счет субсидий и грантов: федеральные театры — из госбюджета, прочие — из бюджета своей области, города, республики или края. Для любого театра важно, сколько выделят на театры в этом году и сколько от общего пирога достанется именно ему. Насколько он будет конкурентоспособен? Сможет ли пригласить звезд на ведущие роли? Какие декорации потянет в этом сезоне? Возьмем для примера федеральные театры: всего в стране их 24. Интересная задача для экономиста: как распределить между 23 театрами 10 млрд рублей бюджета 2015 года? (Большой театр сюда не входит, он финансируется отдельной строкой федерального бюджета более чем на 4 млрд рублей ежегодно.)
«Никакой формулы распределения не существует, — говорит Рубинштейн. — Есть два подхода к решению этой задачи: финансировать от достигнутого, то есть примерно как в прошлом году, и давать “сколько я захочу”, то есть волюнтаристски, по разумению чиновника». К счастью, у нас преобладает первый подход, утверждает Рубинштейн. Но бывают и исключения. При Капкове у Гоголь-центра была хорошая финансовая подпитка от департамента культуры Москвы, а после ухода его главы источник вдруг сразу иссяк и театр остался с многомиллионным долгом: руководитель театра Кирилл Серебренников взял кредиты, надеясь на прежний уровень госдотирования и помощь своего финансового партнера — «Альфа-банка». Однако новая власть в департаменте культуры распорядилась деньгами иначе, и, если верить слухам, в президентской администрации «Альфе» отсоветовали помогать Серебренникову. Так Гоголь-центр оказался банкротом. «Серебренников стал жертвой того, что слишком хорошо работал — выпустил 24 спектакля за два года, — говорит главный редактор журнала “Театр” Марина Давыдова. — В Москве есть театры, которые делают полторы премьеры в год, залы не собирают, но чувствуют себя в финансовом плане совсем неплохо».
Римас Туминас, главный режиссер театра Вахтангова, в 2013 году рассказывал «HBR — Россия», как обстояли дела, когда он только принял дела: «Разобравшись в том, что происходит, я понял: безликий репертуар на руку дирекции. Ей не нужны хорошие спектакли, ей нужна спокойная жизнь и полная свобода действий. Например, она создала собственную систему распространения билетов через свою коммерческую фирму “ИП…”, которой платили огромные комиссионные — 35%. Наши билеты не продавались в городских кассах, нас не было в городских афишах — театр фактически был исключен из московской театральной жизни». Туминас тогда провел реформу и довольно быстро вывел свой театр в наиболее популярные и «кассовые», но до этого, как следует из его слов, театр управлялся из рук вон плохо, хотя все равно получал государственную субсидию. На вопрос о нынешних принципах распределения господдержки Министерство культуры через свой пресс-центр ответило нам так: «В 2015 году субсидии на государственные задания театрам определялись с учетом объема привлечения ими средств от платных услуг (продажи билетов на спектакли, концерты и мероприятия). Это позволяет оценить степень востребованности услуг, которые оказывают учреждения в сфере исполнительских искусств, на основе критерия эффективности вложения бюджетных средств (в расчете на один бюджетный рубль — n рублей от платных услуг, обеспеченных потребительским спросом)». Заметим, что в формуле министерства n заведомо меньше единицы, ведь размеры субсидии всегда превышают кассовую выручку театра. О финансировании театров мы говорили и с Борисом Мездричем, недавно уволенным директором Новосибирского театра оперы и балета, одного из немногих федеральных театров, расположенных не в Москве и не в Санкт-Петербурге.
До этого Мездрич возглавлял театры в Омске и Владивостоке и не понаслышке знает практику взаимоотношений с госструктурами, да и внутреннюю театральную кухню. Как говорит Мездрич, «бюджетные деньги федеральному театру добывать так же трудно, как если бы мы были негосударственным учреждением. И, к сожалению, процесс этот никак не формализован и нет никаких расчетов и формальных показателей, определяющих размер этой самой субсидии». Мездрич говорит, что он предлагал ввести простые метрики: например, для театров оперы и балета, работающих в сопоставимых условиях, установить единый размер дотации на одно посещение театра одним зрителем. Показатель этот он рассчитал для своего театра и для Театра оперы и балета в Екатеринбурге (тоже федерального). Оказалось, что у Новосибирска он вдвое меньше — в пересчете на посещение он обходится казне дешевле. Метрика Мездрича была бы безупречной, если бы театры были одинаковыми по вместимости зрительного зала, величине потенциальной аудитории (население города и культурные традиции). «Увы, все театры очень разные», — напоминает Александр Рубинштейн. Он считает любую привязку финансирования к спросу абсурдной: «Если учредитель будет давать госзадание на число посещений, то в театре пойдет одна порнуха. Ни классики, ничего другого не будет. Если же заказчик контролирует количество билетов, поступивших в продажу, то чем больше зрителей придет в театр, тем выше доход этого театра. Это его и стимулирует. Директор сможет пригласить модного режиссера, признанных звезд. Эта схема позволяет так делать. Может, она не очень хорошая, но другой нет». В этом есть логика, ведь задача культурной политики — мотивировать людей приходить в театр, а не наказывать за «неправильное управление» тех, чьи усилия не привели к искомому результату. Отстающие и так наказаны недополученными сборами, снижением престижа и отсутствием спонсорской поддержки. Обзавестись богатым попечителем — мечта любого театра, но удается это немногим. «Я вообще считаю, что выходить из тяжелой ситуации с финансированием нужно миром: скидываться. В Омске в 1905 году на деньги купечества был построен театр.
Городская управа объявила сбор денег, богатые сбросились, казна добавила. Так же было и в Иркутске», — рассказывает Мездрич. Быть госбюджетным учреждением вообще непросто, но в театре требования регулятора особенно трудновыполнимы. Взять хотя бы 94 закон о госзакупках: театрам далеко не сразу разрешили отказаться от тендера при заказе декораций. «У нас как-то тендер выиграла фирма, которая делала металлические заборы, — вспоминает Мездрич, — а когда ввели эмбарго, театры долго не могли заказывать импортные ткани для пошива костюмов. Потребовалось два-три месяца межведомственной переписки, чтобы наконец Минкульт дал разъяснение и театру разрешили купить итальянские ткани». Трудности бывают и от хорошей жизни. На постановку «Щелкунчика» город Новосибирск выделил федеральному театру 40 млн рублей. Всех расходов это не покрыло, но «смешать» федеральные, муниципальные и собственные средства театра в одном проекте оказалось невероятно сложно. «Для этого надо было принять два постановления правительства, получить в Москве разрешение на пробную сделку, заключить договор с Министерством культуры Новосибирской области», — вспоминает Мездрич. Принцип «финансирования от достигнутого» не так плох: он хотя бы гарантирует постоянство дохода, особенно сейчас, когда из-за финансового кризиса сборы многих театров падают. Но у нас этот принцип не выдерживается: дотация театру может снизиться просто по прихоти чиновника министерства культуры, говорит Марина Давыдова.
Можно впасть в немилость, подписав какое-нибудь «неугодное» письмо, например в поддержку того же Мездрича, уволенного из-за постановки «Тангейзера». Или министру просто не нравится какой-нибудь худрук, а другой, наоборот, очень нравится. «Размер субсидии для театра — в чистом виде функция от социального капитала его руководителя», — говорит Рубинштейн. Формально руководители театров у нас бывают двух видов: прямой контракт Минкульт подписывает либо с художественным руководителем — главным режиссером, либо с директором. Понятно, что в качестве лоббиста, ходатая за бюджетными деньгами, селебрити в целом эффективнее, чем менеджер (директор театра). У первого нередко есть связи не только в Минкульте, но и в правительстве и в любой другой администрации. Его возможности как лоббиста гораздо шире.
Невмешательство?
Наверное, на планете есть прекрасные страны, в которых тот, кто платит, даже не пытается заказывать музыку. На бумаге это, как правило, так: ни инвестор, ни спонсор, ни учредитель (государство) не имеют права голоса в вопросах искусства. Но вот на деле... В статье Джеймса Стюарта о театре Метрополитен «A Fight in the Opera» (New Yorker, 23 марта 2015 года) описан эпизод, помогающий понять, к чему приводят трения между руководителем и попечительским советом. Когда в 2009 году театр поставил «Тоску» — с мрачными темными декорациями и сексуальными сценами, многие члены совета, видевшие свою роль в сохранении традиций, возмущались и требовали вернуть на сцену красивую постановку Франко Дзеффирелли.
Генеральный менеджер «Метрополитен» Питер Гелб твердо отказался, и тогда один из почетных директоров и основных доноров, Джеймс Маркус, решил по-иному распорядиться своими деньгами: взял и пожертвовал $10 млн Джульярдской консерватории. Театр «Метрополитен» никогда не получал никаких дотаций от государства, да и вообще бюджетное финансирование театров в США крайне невелико. Но в истории государственного фонда, распределяющего гранты между проектами (National Endowment for Arts, NEA), случались перипетии, по сравнению с которыми описанный случай покажется дружеской перебранкой. За 50 лет существования NEA атаковали много раз — в основном консервативные группы вроде American Family Association и религиозные деятели. И при любом публичном скандале в Конгрессе кто-нибудь ратовал за закрытие фонда: мол, нельзя за счет налогоплательщиков финансировать хулиганство (в основном гранты выделяют на авангардное искусство, причем сумма госдотации — жалкие на фоне многотриллионного бюджета страны $150 млн).
Один из громких скандалов (1990 год) был связан как раз с театром. Группа актеров, получившая название «четверка NEA», организовала на сцене перформанс: актриса ползала по сцене, вымазанная шоколадом, который имитировал фекалии (незадолго до этого в мусорном контейнере обнаружили жертву сексуального насилия именно в таком виде). Актриса, которая тогда обнажалась на сцене, с тех пор остепенилась и сейчас преподает в Нью-Йоркском университете, но против NEA приняли действующий до сих пор закон, запрещающий фонду поддерживать индивидуальных исполнителей. В 1996 году лидер республиканского большинства Конгресса Ньют Гингрич снова ополчился против NEA и потребовал его ликвидации. Этого удалось избежать, но бюджет сократили примерно вполовину. Решения о присуждении грантов принимают эксперты, назначаемые президентом, но конгрессмены снова сочли политику NEA «расточительной и элитистской». Когда хотят запретить что-нибудь в сфере культуры, произносят примерно одни и те же слова: о расколе общества, оскорблении чьих-то чувств и общественной морали.
Недавно в Торонто отменили выступление Валентины Лисицы, живущей в США пианистки украинского происхождения, за ее крайне критические высказывания в Твиттере о нынешней Украине. Организатор ее концерта, Симфонический оркестр Торонто, объяснил свое решение именно «опасностью раскола общества». Так что риторика обличителей «Тангейзера» вовсе не оригинальна, весь вопрос в частоте и уровне запретов в культуре. В России отмена гастролей артиста или группы прочно вошла в политический ассортимент, а в европейских странах, где помнят уроки истории, такое вообще вряд ли возможно. Когда министр Мединский объявил: «Пусть расцветают сто цветов, но поливать мы будем лишь те, что нам нравятся», он взял на себя функции то ли главного мецената, то ли главного цензора страны. Увы, опыт показывает, что заказанную чиновниками музыку мало кто хочет слушать. «Если бы они были бы такими сверхпрозорливцами, которые знают, что хорошо, а что плохо, не надо было бы вообще государственных театров: могли бы заказывать постановки коммерческим театрам, как это происходит в кино. Государственные театры потому и существуют, что государство готово делегировать полномочия профессионалам. Никакой министр не может управлять культурой, он может только создавать условия для ее существования», — говорит Рубинштейн. У противников государственного расточительства есть и еще один резон: в театры и на концерты ходят далеко не все.
Почему одни налогоплательщики должны платить за развлечения других? Но государство финансирует и науку, хотя ее потребителей вовсе нет среди населения, а доказать «полезность» гуманитарных наук, культуры и театра довольно трудно: их экономические эффекты слишком отдалены во времени. Впрочем, недавно появилась теория «культурного капитала» — о том, как традиции создания и потребления культурных благ, науки и образования влияют на ценности нации, и значит, опосредованно — на экономику. Эпоха Ренессанса стала переломной в истории человечества благодаря наукам и искусствам, а не завоеваниям территорий. У нас в театрах бывает 6—7% населения, и, судя по этой цифре, мы одна из самых театральных стран. Впрочем, процент мог бы быть и выше, ведь в России театров по мировым меркам мало. У нас преобладают гигантские многотысячные залы, тогда как в Европе много помещений на 50, 100 или 200 мест. Большинству людей до театра попросту трудно добраться. «Но, если вокруг мало настоящего искусства, набирают популярность разного рода культурные суррогаты. “Танцы со звездами” и всякого рода “фабрики” вытесняют настоящую культуру. Люди принимают это за искусство», — говорит Рубинштейн.
Роль личности
Руководить театром — неимоверно трудная работа. Делать ее хорошо может только титан, обладающий собственным видением, волей, креативностью, огромной эмпатией, харизмой и властью над людьми. В театре нужно быть смелым, ведь осторожного искусства не бывает. Недаром имена худруков крупных театров на слуху даже у людей, которые никогда в театре не были.
С уходом такого титана — или диктатора, кто как на это смотрит, — театр умирает, а при новом руководителе рождается снова, иногда спустя много лет. Все знают, что Олег Ефремов когда-то возродил МХАТ, а Юрий Любимов — создал Театр на Таганке. Нынешний директор «Большого» Владимир Урин прежде руководил Музыкальным театром Станиславского и сделал его популярнее и значительнее, чем когда-либо. На вопрос о том, что такое успех в театре, зампредседателя Союза театральных деятелей, профессор ГИТИС Геннадий Смирнов, отвечает сразу и без запинки: «Это успех у зрителя, успех у театральной общественности (критиков) и успех у учредителя». Учредителем Смирнов, в прошлом директор Псковского драмтеатра, называет собирательный Минкульт, то есть ведомство, от которого зависит финансирование. Найти баланс интересов и угодить разным группам интересов удается далеко не каждому лидеру бизнеса, а в театре это еще труднее. Хотя бы потому, что работать с актерами — не то же самое, что со строителями или даже инженерами. «В советские времена театр отдавали в пожизненное владение худруку, так когда-то дворян жаловали поместьем. Каждый был богом и царем в своем имении. В постсоветской России вместо единого лидера в театрах появились влиятельные группы, главным образом из народных артистов. Они стали сами решать, какого худрука хотят», — говорит Марина Давыдова. О театральных бунтах против вновь назначенных или старых главных режиссерах слышали все. У именитых актеров есть свои ресурсы влияния, но во времена противостояний в ход шли не только высокие связи, но и демонстрации перед театрами и даже, по слухам, кнопки, неведомым образом оказавшиеся в ботинках у режиссера.
У Римаса Туминаса полгода ушло лишь на то, «чтобы сломить сопротивление коллектива». И вот его главная проблема с труппой: «Люди тяжело, несвободно принимают идею ансамблевости. Возможно, дело в менталитете, в традициях. В Москве все хотят подняться на вершину». Возможно, из-за этого в театре руководители никогда не думают о том, кто придет им на смену. Я спросила Марка Захарова, подбирает ли он себе преемника, когда запускает в свой Ленком молодых режиссеров, и в ответ услышала: «Разве Пушкин думал о том, кто займет его место в российской поэзии?». Потом, правда, поправился и сказал, что о преемнике задумывается, но никакой стратегии поиска у него нет. Мэтр посетовал на то, что в стране вообще мало хороших режиссеров: «Почти нет людей, которые могут обеспечить успешный театральный проект: сделать спектакль, который будет по-настоящему интересен искушенному московскому зрителю». «Сейчас усилиями Минкульта и митрополита новосибирского и Бердского режиссер Тимофей Кулябин выведен на высокую космическую орбиту. Он стал очень известным человеком, и у него долго не будет никаких проблем с работой. Знаю, что у него есть зарубежные планы и он успешно и хорошо работает. И Мездрич тоже может выбирать себе интересную работу. Это резерв для губернаторов — пригласить талантливого и просвещенного человека в свой театр», — говорит Захаров. Сам Марк Захаров уже пригласил Кулябина «осуществить любую свою идею в театре Ленком». В его театре уже ставил спектакль режиссер Константин Богомолов.
Наверное, как у всякого талантливого и опытного в своей профессии человека, у Марка Захарова возникает соблазн «поправить» авторскую концепцию приглашенного режиссера. Но хватает мудрости не вмешиваться. Хотя бы потому, что в бытность свою молодым режиссером сам он «натерпелся» и от Андрея Гончарова в Театре Маяковского, и от Валентина Плучека в Театре Сатиры. «Не могу сказать, что я с энтузиазмом воспринимаю все, что Богомолов делает в “Борисе Годунове”. Но спектакль пользуется ажиотажным спросом», — говорит Захаров. (У Богомолова патриарх похож на олигарха, воевода говорит с акцентом Рамзана Кадырова, вельможа по скайпу советуется со своим братом, осевшим в польской эмиграции, а во время монолога о власти на плазменной панели появляется видео — президентский кортеж). Почему Захаров, Калягин, Могучий и другие сочли необходимым заступиться за постановку «Тангейзера» и подписали письма в защиту уволенного Мездрича, режиссера Кулябина и художника Головко? Наверное, потому, что чувствуют, что завтра могут «прийти и к ним», и помнят, как идеологический отдел ЦК указывал им, что и как можно произносить со сцены. У нас роль идеологического отдела пока что взяла на себя церковь, и это напугало и общественность, и мастеров театра. В цивилизованной стране напряжение между искусством и церковью не должно выливаться в оргрешения, хотя само по себе такое напряжение неизбежно, хотя бы потому, что в мире полно антиклерикальных пьес. Опера «Королева индейцев», лауреат последней «Золотой маски» — абсолютно антиклерикальный спектакль, направленный против католической церкви. А мольеровского «Тартюфа» церковь запретила сразу после первой постановки — об этом всем напомнила Ингеборга Дапкунайте во время вручения этой самой «Золотой маски». В истории было много всякого: трагедию «Борис Годунов» зрители увидели только в 1866 году, многие пьесы Островского царская цензура подолгу не пропускала на сцену, а «Дни Турбиных», которые Сталин смотрел десятки раз, не разрешали ставить нигде, кроме МХАТа.
Искусство призвано улавливать нынешние и грядущие «точки напряжения и перелома» в жизни человека, в эстетике и в обществе, а в отсутствие свободы СМИ театр неминуемо становится все более социальным. И, хотя бы поэтому, если чиновники будут пытаться наказать рублем непокорные театры, протест никуда не уйдет. Он просто переместится на другие сцены.